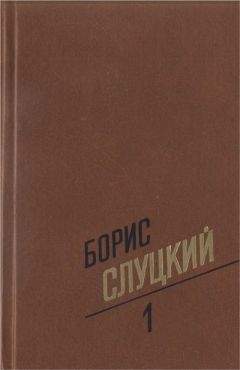«Екатерининский солдат…»
Екатерининский солдат,
он, словно рубль елизаветинский,
до блеска он надраен, так,
что на ходу звенит и светится.
Звенит суворовским штыком,
блестит ружьем своим старинным
и медью пуговиц. Таков
солдат времен Екатерины.
Екатерининский солдат,
не спрашивая у грядущего,
идет, куда ему велят,
в затылке впереди идущего.
И укрощая варшавян,
освобождает он миланца,
и прет вперед, толков и рьян,
согнувшись под нагрузкой ранца.
Мила мне выправка его,
пудовая обидна выкладка.
Не пожелаю ничего
другого, только б видеть вылазку
его сквозь Альпы! Прямо вниз!
Его прыжок французу на голову!
Его, прекрасного и храброго!
Примстись, суворовец!
Приснись!
Звякнул электрон об электрон.
Хромосомы трутся друг об дружку.
А ученый ест свою ватрушку,
это чувствуя своим нутром.
Выведен какой-то новый сорт
человека, слышащего лязги
звезд о звезды, чующего тряску
атомов на дне реторт.
А глядишь: пьет, курит и поет
то же: водку, песню, сигарету,
слыша популярного поэта,
тотчас заявляет: — Во дает!
Это — пена, а волна
в том, что, вникнувши во все подробности,
понимает мир он и без робости,
если надо, прет против рожна.
«Человек состоит из способности и потребности…»
Человек состоит из способности и потребности,
из привычек, обязанностей, идей,
чувства голода, чувства ревности —
вот таков примерный состав людей.
Соотношенье свершенья с желаньем
позволяет достичь вершин.
Мы, конечно, то, что мы желаем,
но также и то, что мы свершим.
«Самоутверждайся, человек!..»
Самоутверждайся, человек!
Сможешь — напиши «Шильонский замок».
Нет — приди в Шильонский замок
и на стенах знаменитых самых
всех имен и дат поверх
напиши свой титул, год и век!
Байрон, и Гюго, и Шелли
выскребли свое! Посмели.
Смей и ты!
Пусть взглянет с высоты
сквозь столетний мрак
будущего
твой потомок
и заявит: вот подонок,
что он стены портил; вот дурак.
Байрон, Шелли и Гюго
гоготали здесь ио-го-го:
личное, свое, неповторимое,—
вечное партача и старинное,
имена на камне проскребли
и до нас сквозь целый век дошли.
Самоутверждайся, друг и брат!
Я, признаться, очень рад
видеть на стене второго века
надпись следующего века.
Личность утверждалась и тогда:
римляне, вандалы, готы, турки.
Не такая уж беда
порча штукатурки.
Все против тебя: пространство, время,
моралисты, маляры.
Как тебе из нашенской поры
просочиться в будущее время?
Осмотрись, как Байрон, и пиши,
в камне выбит,
а не в шелке вышит.
К счастью, по соседству ни души —
все на разных стенах пишут!
Дети пленных турчанок,
как Разин Степан,
как Василий Андреич Жуковский,
не пошли они по материнским стопам,
а пошли по дороге отцовской.
Эти гены турецкие — Ближний Восток,
что и мягок, и гневен, и добр, и жесток —
не сыграли роли значительной.
Нет, решающим фактором стали отцы,
офицеры гвардейские ли, удальцы
с Дону, что ли, реки той медлительной.
Только черные брови, их бархатный нимб
утверждали без лишнего гнева:
колыбельные песни, что пелись над ним,
не российского были распева.
Впрочем, что нам копаться в анкетах отца
русской вольности
и в анкетах певца
русской нежности.
Много ли толку?
Лучше вспомним про Питер и Волгу.
Там не спрашивали, как звалась твоя мать.
Зато спрашивали, что ты можешь слагать,
проверяли, как ты можешь рубить,
и решали, что делать с тобой и как быть.
«Вот и проросла судьба чужая…»
Вот и проросла судьба чужая
сквозь асфальт моей судьбы,
истребляя и уничтожая
себялюбие мое.
Вот и протолкалась эта травка
и поглядывает робко,
поднимая для затравки
темные, густые бровки.
Теми бровками глаза оправлены,
капли доброго огня.
Здравствуй, зайчик солнечный, направленный
кем-то в шутку
на меня.
В это десятилетие
новорожденных девочек
называли Татьянами
или — не реже — Натальями.
Татьянами и Натальями.
Татьянами, как у Пушкина.
Как у Толстого — Натальями.
А почему — неведомо.
Если размыслить — ведомо.
Прошлое столетие,
век Толстого и Пушкина,
возобновило влияние.
— По восемь Танек в классе! —
жаловались знакомые. —
Они нумеруют друг друга,
чтобы не запутаться.—
Знакомые жаловались,
но новорожденных девочек
записывали неукоснительно
Татьянами и Натальями,
Натальями и Татьянами.
Тургеневские женщины
были тогда спланированы,
но с именами толстовскими
и — особенно — пушкинскими —
певучими, протяжными,
пленительными, трехсложными,
удобными для произнесения
в бреду, в забытьи, в отчаянии
и — особенно — в радости.
Отчетливые в шепоте,
негодные для окрика.
Кончаю стихотворение,
чтоб тихо, чтоб неслышимо
позвать: Татьяна! Наталья! —
и вижу, как оборачиваются
уже тридцатилетние,
еще молодые красавицы.
«Интеллигентные дамы плачут, но про себя…»
Интеллигентные дамы плачут, но про себя,
боясь обеспокоить свое родство и соседство,
а деревенские бабы плачут и про себя,
и про все человечество.
Оба способа плача по-своему хороши,
если ими омоется горькое и прожитое.
Я душе приоткрытой полузакрытой души
не предпочитаю.
Плачьте, дамы и женщины, или рыдайте всерьез.
Капля моря в слезинке, оба они соленые.
Старое и погрязшее смойте потоками слез,
всё остудите каленое.
«Что думает его супруга дорогая…»
Что думает его супруга дорогая,
с такою яростью оберегая
свою семью, свою беду,
свой собственный микрорайон в аду?
За что цепляется?
Царапает за что,
когда, закутавшись в холодное пальто,
священным вдохновением объята,
названивает из автомата?
Тот угол, жизнь в который загнала,
зачем она, от бешенства бела,
с аргументацией такой победной
так защищает,
темный угол, бедный?
Не лучше ли без спору сдать позиции,
от интуиции его, амбиции
отделавшись и отказавшись вдруг?
Не лучше ли сбыть с рук?
Но не учитывая, как звонок
сопернице
сторицей ей воздастся,
она бежит звонить, сбиваясь с ног
и думая:
«А может быть, удастся?»
ГЛУХОЕ ЧУВСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ
Справедливости глухое чувство
глухо, но не немо.
Пальцы сжав до костяного хруста,
зазвенев от гнева,
загораясь, тлея, полыхая,
распахнувши душу,
чувство справедливости глухое
я обрушу.
Этого приемника питанье
емко без границы,
то ли в генах, то ли в воспитаньи,
видимо, хранится.
Даже осуждающие взгляды
эту сеть питают.
А другого ничего не надо.
Этого хватает.
Справедливость слышит очень плохо,
но кричит истошно,
так, что вздрагивает вся эпоха,
вслушавшись оплошно,
так, что вздрагивают все державы:
мол, сейчас начнется.
Если справедливость задрожала,
мир качнется.
Доказательств никоторых нету,
нету основанья,
но трясет великую планету
мальчика рыданье.
Вдруг преодолев свою сонливость,
вялую истому,
слушает глухая справедливость
тихонькие стоны.
«Как выглядела королева Лир…»