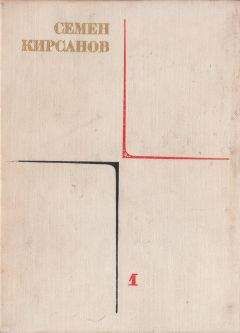БУДУЩИМ ЛЮДЯМ
Над самолетом —
солнце близко,
внизу —
туманная погода.
А я в уме писал записку
друзьям
двухтысячного года.
Мы с вами,
будущие люди,
все разберем и все обсудим,
и все поправим, все наладим, —
мир
будет светел и наряден.
И пусть в другом тысячелетье
нет наших нынешних знакомых, —
мы в этом новом
Новом Свете
себя почувствуем как дома.
Пусть трудно тем,
кто был допущен
смотреть и вглядываться дальше,
перед стихами о грядущем —
высотные громады
фальши.
Но что в своей семье стесняться, —
теперь вы знаете,
что делать,
а ваши дни нам часто снятся,
как Вере Павловне
в «Что делать?».
И мы ведь были сном о чуде,
ведь до семнадцатого года —
такие ж
«будущие люди»
мы с вами были для народа.
За век до штурмов и нашествий,
свой горький день опережая,
писал те главы
Чернышевский
с целинных наших урожаев.
Для нас
знаменами алели,
в подполье с Лениным трудились,
себя для нас
не пожалели,
чтоб завтрашние мы родились.
И впредь —
у вас над головами
такое ж точно солнце будет,
ведь мы
одно и то же с вами,
родные будущие люди.
У вас такие ж точно руки,
и вас мы кличем,
зааукав;
вы — наши дети,
наши внуки,
вы — наши дети наших внуков.
Тут бой идет
грознее Библий,
тут нами строится преграда,
чтоб ваши бабки
не погибли
от термоядерного ада.
Для вас
мы выходили в поле
под шум уборочных орудий,
чтоб вам не знать
голодной доли,
родные будущие люди.
На этом свете ненаглядном
нам приходилось ушибаться;
мы ошибались
так наглядно,
что вам легко не ошибаться.
Но мы за будущее бились,
за вас,
железом и словами,
чтоб матери в отцов влюбились,
чтоб забеременели
вами;
чтоб кислород
остался тем же,
каким он был от Сотворенья,
у нас в Москве,
у них на Темзе,
у всех — на Сене и на Рейне.
Ведь ваших сыновей дыханье
мы отстояли в этом веке…
Так посидите
над стихами,
закрыв воспоминаний веки.
Их написал я над Ла-Маншем,
под гул винтов,
во время круга…
Друзья,
давайте будем раньше
сквозь время узнавать друг друга!
Острова на Дунае…
Я живу на одном.
Парк стоит, затеняя
мой гостиничный дом.
Клены чем-то похожи
на слоновьи ступни
и морщинисты кожей.
Много помнят они.
Их огромные кроны
шире этих небес;
я любил, удивленный,
их зеленый навес.
Рядом — скошенный бархат
с маргаритками в нем,
скамьи острова Маргит,
пустовавшие днем.
Дальше — место оркестра,
островной ресторан;
там плетеные кресла
прислонились к столам.
По утрам никого нет,
листья падают с крон,
скрипка утром не стонет,
но ворчит саксофон.
Парком острова Маргит
с тихим шепотом шин
шли новейшие марки
иностранных машин.
Выходили из дверец,
под органный сигнал —
в черной паре венгерец
выходить помогал.
Я по острову Маргит
только утром ходил;
лишь в пустеющем парке
я был не один.
Там секретничал шелест,
птица каплю пила,
лезли вверх, копошились
муравьи у дупла.
В круглых ракушках слизни
облепляли ростки…
В этой временной жизни
не знал я тоски.
Только вечером, только
скрипкой взмолится джаз,
и толпа среди столиков
запестреет, кружась,
и заполнятся скамьи,
пустовавшие днем,
где, обвившись руками,
сядут только вдвоем,
только губы прижмутся
к потемневшим плечам
и признанья начнутся
под смычком скрипача, —
из-под клена ночного,
постояв в стороне,
одиночество снова
подходило ко мне.
Начинало сначала,
повторяло все то,
что уже откричало,
превратилось в ничто,
убеждало, тревожа,
шепотком укоризн…
Что же временно? Что же
настоящая жизнь?
Панорама иллюзий —
кленов, замков, реки
или, свитые в узел,
две далеких руки?
Но и вечер не вечен, —
тихнет берег речной;
остров Маргит увенчан
наддунайской луной.
И опять никого нет,
звезды падают с крон,
скрипка больше не стонет,
не ворчит саксофон.
Ночь на острове Маргит,
сон кленовых вершин,
спят новейшие марки
иностранных машин.
Ни шагов, ни оркестра.
Глухо в сердце моем.
Вот —
еще одно место
здесь, на шаре земном.
Мне на свете нужна
только в гору тропа!
Даль чиста и нежна.
Лоз венгерских толпа.
Пусть она и крута,
вьется к небу, кружа, —
здесь не норка крота,
не пещерка ужа.
Здесь найдется и стол,
грубо сложенный дом,
виноградарь простой
с опаленным лицом.
Без ухода — цветы,
без наклейки — вино.
Вот такой высоты
я заждался давно.
Взоры сельских невест
отражать суждено, —
в доме зеркало есть,
в форме сердца оно.
Видно, правда одна
в этом доме в цене,
что как сердце она
здесь, на белой стене.
Я смотрю на оклад
в голубых васильках;
долго ищет мой взгляд
седины на висках.
Нет, воронье крыло
мне на брови легло,
и два карих огня
вместо глаз у меня!
Чем-то детским мои
обновились черты,
словно стерты слои
всей былой суеты.
В душу смотрит светло
свет прозрачных глубин,
будто знает стекло,
что любил, кем любим;
будто знает, что есть
что-то в сердце моем;
будто добрая весть
отражается в нем.
Много видел я гор,
где бродил, где искал,
но таких до сих пор
не встречалось зеркал!
В форме сердца оно,
в душу смотрит оно!
Наливай же в стакан,
виноградарь, вино!
Режь садовым ножом
лук, пахучий до слез.
Здесь нашелся и дом,
здесь и сердце нашлось.
Даль чиста и нежна.
Лоз венгерских толпа.
Мне на свете нужна
только в гору тропа!
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТЕТРАДЬ (1957–1960)