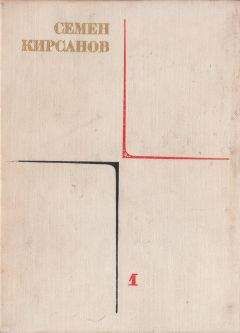РЕШЕТКИ
Решетки!
Я о вас
хочу сказать хоть раз
всю правду!
Право есть —
ваш формуляр прочесть.
Вы —
сотни тысяч пик
без воинов.
Вы — крик:
«Не подходить!»
Вы — мир
пищалей и секир
без ратников.
Вы — смотр
полков,
какие Петр
на иностранный лад
построил —
без солдат.
Вы —
Петербурга лик,
стоящий штык о штык
патруль
без часовых.
Вы —
стрелок часовых
остроконечный строй.
Вы —
декабристам: «Стой!»
Решетки!
Вы — печаль
закрывшихся ворот,
тюремного
ключа
железный поворот.
Вы — на окне,
где взгляд
Желябова
на ряд
оград.
Вы — мир цепей
из бронзы.
Вы — репей
из чугуна.
Цветки
из стали.
Лепестки,
раскрывшиеся там,
где гибель лепесткам.
И нет —
вы не родня
наивного плетня
в ромашках
и траве
с горшком на голове.
Вам —
тын
ни сват, ни брат,
о, легион оград!
Нет,
вы — конвой тропы
для каторжной толпы
вплоть до острогов,
где
на хлебе и воде
лежали по углам
прикованные
к вам!..
Рудой еще когда
вы были —
и тогда,
о, сколько бедняков
несли
из рудников
и каторжной киркой
рубили им
покой!..
Так —
вы из мертвецов
росли вокруг дворцов.
И крицами когда
вы были —
и тогда,
О, сколько клейм
на лбу
поставлено рабу,
да,
божьему рабу
из беглых крепостных,
который
вас ковал
и в стенах крепостных
о воле
тосковал,
о ковыле в степях…
Вы
в пушкинских стихах
о молодом орле,
о машущем крыле…
На вас самих
орлы
распяты,
кандалы
к ногах у вас висят,
и обнесли
фасад
империи.
И шпик
все видит из-за пик…
Но вспомните
и час,
когда заставил вас
вдруг сделать
шаг назад
красногвардейский штык,
Октябрьский
Петроград!
Вас к стенам придавил
плетень
крестьянских вил…
И —
как ни угрожал
Таврический дворец —
трагический конец
владельцев ваших
ждал!
Вы — шаг вперед опять,
но вас погнала
вспять
под цоканье подков
Конармия
клинков.
И миллион штыков
(на каждом красный бант)
вас усмирил.
И вот
вы — только ржавый сброд
мечей,
и алебард,
и копий.
Но — вперед
вершка вам не ступить!
Но как же с вами быть,
чугунные цветы,
секиры и щиты?
Вас
ради красоты
оставить,
может быть?
А если вы — посты
минувшего?
И стяг
с орлом
о трех цветах
вас тайно осенял?
Тогда
вы — арсенал!
Ни цепи,
ни цветки,
ни медные витки
тогда вас не спасут.
О, зимний
Летний сад,
заснеженный, не летний,
где высоко
висят
серебряные ветви;
где погребен
песок
с замерзшими следами,
где все еще
не срок
свиданий
и досвиданий;
где так печален вид
пустующих
скамеек,
где даже тень любви
усесться
не посмеет.
Сад,
где газон зимы
забыл
о незабудках,
где весь античный мир
живет
в дощатых будках;
где в мраморной мечте
вновь окунуться
в мифы —
в купальной наготе
стоят в кабинах
нимфы;
где лишь Крылов
свое
не покидает кресло, —
и сторожит
зверье,
столпившееся тесно;
где в инее с утра
Персей
и Андромеда,
где во дворце Петра
все говорит
про шведа;
где воздух
в блестках от
туманов и морозов,
где ночью
у ворот
таится Каракозов;
где с флагами
толпа,
в воззваньях динамитных,
где сквозь морозный пар
мелькнул
февральский митинг;
где царские орлы
забились
под короны,
где подняли стволы
безлиственные
кроны;
где помнят о руках,
что их сажали,
корни,
а ветви в облаках
парят,
нерукотворны,
но — дерева где нет,
какое
за два века
увидело бы свет
само,
без человека;
где человек не взял
в блокадный год
ни чурки,
а грустно замерзал
у гаснущей
печурки…
Сад,
где так дорог луч
и каждый теплый градус,
пришедший
из-за туч
на ленинградский адрес;
где,
на руки дыша,
кусты, скамейки просек,
как сердце,
как душа,
о потепленье просят;
где в сумерках
на льду,
у снежной филиграни,
я
безответно жду
далекой телеграммы;
где требуют весны,
детей
хотя бы ради,
и барельеф стены,
и кольца
на ограде;
где подается весть
всем веткам
по цепочке,
что потепленье
есть —
пусть набухают почки;
где птицы голосят
и занимают ветви,
где солнце
снежный сад
вновь превращает
в Летний;
где новый оборот
находит
стих звенящий:
«Надежду —
у ворот
не забывай,
входящий!»
Сегодня
я хожу
по Русскому музею,
там
на полотнах Ге
видения сизеют;
желтеет
Левитан
и зеленеет
Шишкин, —
вот-вот и упадут
с мохнатых елей
шишки.
Пройдешь
Рублевский зал,
побудешь при Петре ты,
потом
тебя пленят
Тропинина портреты,
где с лентой и звездой
сидит
вельможа старый,
девица со свечой
и юноша с гитарой.
Нас в Царское Село
Боровиковский
вводит;
прозрачно и светло
он тонкой кистью
водит…
Как дверь
из зала в сад,
распахнута картина:
в салопе
и чепце —
сама Екатерина.
И чуть зеленый фон
с дубравами
в тумане,
и жемчуга́ в ушах
у госпожи
в тюрбане.
И показалось мне
при этих
важных дамах,
что галерея — мы,
а зрители-то
в рамах!
Брезгливые
на нас
из рам глядят вельможи,
статс-дама
щурит глаз
из золоченой ложи,
графини
и князья
лорнетами нас мерят,
но, видимо,
они
своим глазам не верят!
И как понять сии
ковбойки,
куртки,
блузки —
столь вольный разговор,
и — фи! —
не по-французски?..
Что смыслят в нас цари?
Как разберутся графы
в глубинах
наших глаз
и наших биографий?
Попробуй
в те года
портреты наши выставь, —
для них
мы —
что для нас
холсты абстракционистов.
И ржевского купца
побагровели
веки —
не может он понять,
что мы
за человеки!
Я к девушке иду,
не жемчугом
венча́нной,
ее среди снопов
писал
Венецианов.
На жатве,
посреди
прокошенных дорожек,
в венце из русых кос,
босая,
без сережек.
Он написал глаза
большие,
голубые,
чтобы она могла
понять
глаза любые.
Знакома
и мила
мне черточкою каждой.
А рядом —
узкий серп
(без молота пока что).
И правда —
смотрит так
крестьянка крепостная,
как будто
видя нас,
как будто
вспоминая…
Она
в нас признает
своих парней и девок,
гадавших
столько с ней
на лавках посиделок,
кудрявых женихов,
затерянных в солдатах,
и братьев,
и зятьев,
в ту пору бородатых…
Сама еще —
дитя,
а трудовые руки.
Но знает,
что придут
к ней
любоваться
внуки.