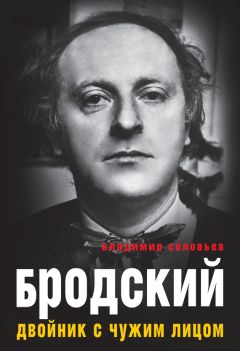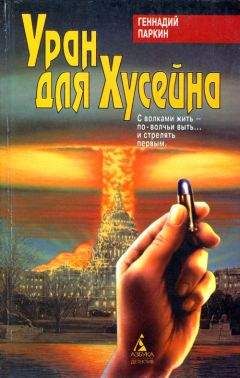А не есть ли тот, кто мыслит, в отличие от нас, стихами, некая патология, в том числе в моральном смысле? И чем талантливее поэт, тем ненадежнее человек? Степень аморализма как показатель гения?
Куда меня занесло…
А тогда, в Колумбийском, дал ему номер моего телефона. Он заметил то, на что я не обращал внимания:
– Легко запомнить: две главные даты советской истории. В самом деле: … – 3717.
* * *
Еще одна встреча с ИБ в Колумбийском, где он преподает, а мы с Леной теперь, после Куинс-колледжа, visiting scholars, то есть ничего не делаем, но зарплата идет. Разговор глухонемых: он говорил об английской поэзии, которую я знаю почти исключительно по переводам, а я – о современной русской литературе, которую он не знает и знать не желает. «Искандер? Петрушевская? Вампилов? Ерофеев?» – переспрашивал он, делая вид, что слышит эти имена впервые. Застряли на Слуцком, которого оба любим. Ося называет его ласково Борухом либо Борой, «завис» на нем со статьи Эренбурга в «Литературке», считает выше всех остальных «кирзятников», хотя принимает и Дэзика Самойлова, но с оговорками из-за гладкописи.
Когда я сообщил Слуцкому, что публикую в «Юности» статью о поэтах «военной обоймы», где есть глава и о нем, он поинтересовался, кто там еще. Я перечислил.
– Повезло им.
– В чем?
– В хорошую компанию попали.
Отсмеявшись, ИБ сказал:
– А что? Верно.
Он – единственный поэт, у которого ощущение трагедии… Жесткая, трагичная и равнодушная интонация… Изменил в одиночку тональность русской поэзии… Это как раз и было ответственным за всю последующую идиоматику…
А лично я – если честно – не знаю, кто из них мне ближе: Бродский или Слуцкий? Скажу больше – пусть и прозвучит кой для кого эпатажно или кощунно: не знаю, кто из них более крупное, более революционное явление русской поэзии. Как реформаторы русского стиха, они – единоверцы, единодельцы и однонаправленцы, но Слуцкий – первопроходец.
– Я начал писать стихи, потому что прочитал стихи Бориса Слуцкого, – сказал Ося.
Я прочел пару неопубликованных стихов, которые Ося не знал.
– Еще! – потребовал он, но из других я помнил только строчки. Рассказал про мою последнюю встречу с Борисом Абрамовичем в Москве – как тот раскрыл лежавший у меня на письменном столе нью-йоркский сборник «Остановка в пустыне» и тут же напал на нелестный о себе отзыв в предисловии Наймана.
– Я сказал наобум, что вы ничего не знали про предисловие. «Должен был знать», – отчеканил Слуцкий.
Ося огорчился, обозвал Наймана «подонком» и сообщил, что тот был последним любовником Ахматовой. Я было усомнился.
– А как еще объяснить ее любовь к нему? Не за стихи же! Неоспоримый довод, ultima ratio.
Бродский был невысокого мнения о его стихах, полагал слабаком и даже исключал из «ахматовских сирот».
– Трио, тройка, троица: мы с Рейном и Бобышев, будь проклят!
Поинтересовался, не собираюсь ли я печатать «Трех евреев». Нежно вспоминал Женюру (Рейна). Поболтали с полчаса, а потом он глянул на часы и сорвался с места:
– Опоздал из-за вас на лекцию!
* * *
Чуть не поругался с Довлатовым. То есть сказал ему все, что думаю, но Сережа спустил на тормозах.
Вот в чем дело.
«Даблдэй» собирается издать «Двор» Аркадия Львова. Не читал и не буду, не принадлежа к его читателям. Однажды он мне позвонил и советовался, как быть с Ричардом Лури, бостонским переводчиком, который отлынивает от перевода романа (по договору с издательством) и «бегает» Аркадия. «Для меня это дело жизни и смерти!» Немного высокопарно, но понять его можно. Кстати, роман уже вышел по-французски. И вот Довлатов, узнав, что «Даблдэй» собирается выпустить «Двор», уговаривает ИБ, чтобы тот, пользуясь своим авторитетом, приостановил публикацию. Но самое поразительное, что ИБ на это идет и звонит знакомому редактору в «Даблдэй».
Чего, впрочем, удивляться? Пытался же он зарубить «Ожог» Аксенова, написал на него минусовую внутреннюю рецензию. Раньше, в Питере, он был совсем-совсем-совсем другим – земля и небо! Помню, Лена Клепикова дала ему на внутреннюю рецензию роман летчика-графомана – Ося с ним встретился, что не требовалось, и рекомендовал рукопись в печать, пусть и с замечаниями, но впредь больше рукописей в «Авроре» не брал, хотя работа не бей лежачего, заработок легкий и чистый. Никак не мог понять его чистоплюйства, но Ося сказал, что не хочет подачек с барского стола, а хочет, чтобы ему платили как профессионалу – за стихи и за переводы. (Подробности этой истории см. в моих «Трех евреях» и воспоминаниях Лены Клепиковой.) Не может быть, чтобы роман Аксенова был хуже романа летчика!
* * *
Как-то, уже здесь, я сказал Осе – по другому поводу, – что он не единственный в Америке судья по русским литературным делам.
– А кто еще?
Я даже растерялся от такой пацанской самонадеянности, чтобы не сказать – наглости. То же мне решала! Тут только до меня дошло, что передо мной совсем другой ИБ, чем тот, которого я знал по Питеру.
Разговор этот состоялся в гостинице «Люцерн» на 79-й улице в Манхэттене, куда ИБ пришел к нам второй раз.
Но сперва о первой встрече.
Осень 1977 года. Мы только из России, полные надежд и растерянные. Ося явился к нам в отель «Люцерн» на следующий день, расцеловал, приветил, сказал, что беспокоился, когда прочел про нас в «Нью-Йорк таймс» – как бы нас не замели. Свел в мексиканский ресторан, чьи блюда острее бритвы (обхожу с тех пор стороной), расспрашивал про совдепию и про общих знакомых, хотел помочь в журнально-издательских делах. Я отказался, почувствовав, что предложенная помощь – способ самоутверждения для него. Держал фасон, хвост пустил павлином. Было бы перед кем! Мы были тогда на нуле, он – старше нас на пять лет своего американского опыта. С верхней полки стенного шкафа вылетел в облаке пыли эмигрировавший вместе с нами кот Вилли, чтобы пообщаться со старым знакомым. ИБ поморщился, будто мы несем ответственность за гостиницу, куда нас поселили на первых порах. Однако Вилли был им приласкан, кошачье имя вспомянуто. Кошек он всегда любил больше, чем людей.
Вторая встреча – сплошь напряг, особенно после «А кто еще?» Будто в его власти давать добро на существование, казнить и миловать. Помню, сказал ему что-то о санкционированной литературе – все равно кем. Даже если по сути я был прав, человечески – нет. Когда Ося стал массировать себе грудь в области сердца, я ему не поверил, а теперь сам сосу нитроглицерин время от времени. Он взывал к жалости, несколько раз сказал свое любимое «мяу». Я замолчал, дав понять, что говорить нам больше не о чем. Обозлился на авторитарность, хотя та шла от прежней униженности, а хвастовство – от комплексов. Мания величия как следствие советской мании преследования, которую он описал в «Горбунове и Горчакове».
Мы его любили совсем-совсем другим. Как у Гейне – Лермонтова:
Они расстались в безмолвном и гордом страданье И милый образ во сне лишь порою видали. И смерть пришла: наступило за гробом свиданье… Но в мире новом друг друга они не узнали.
Вот именно: мы не узнали друг друга в новом мире – сиречь в Новом Свете, но не на том свете, а еще на этом, а на том – там видно будет.
Отчасти общению мешали присутствие Лены и самцовость ИБ. Не буквальная, конечно, – сублимированная. Не эта ли самцовость была причиной его негативной реакции на некоторые сочинения своих соплеменников? Либо это было его реакцией на само чтение? В «Романе с эпиграфами» я написал, что поэт он гениальный, а читатель посредственный. В черновике стояло «*уевый».
* * *
Легче понять прозаика, который препятствует изданию книги собрата по перу. Воронели мне рассказывали, что после рекламного объявления о том, что в ближайшем номере журнала «22» будет напечатан роман Владимира Соловьева «Не плачь обо мне…», они получили письмо от Игоря Ефимова – почему печатать Соловьева не следует. Взамен он предлагал собственный роман. Это как раз понятно. Но ИБ ведь не прозаик – ни Львов, ни Аксенов ему не конкуренты.
В том-то и дело, что не прозаик! Один из мощнейших комплексов ИБ. Отрицание Львова или Аксенова – частный случай общей концепции отрицания им прозы как таковой. И это отрицание проходит через его эссе и лекции, маскируясь когда первородством поэзии, а когда антитезой: «Я вижу читателя, который в одной руке держит сборник стихов, а в другой – том прозы…» Спорить нелепо, это разговор на детском уровне: кто сильнее – кит или слон?
А если говорить о персоналиях, то Львов и Аксенов – подставные фигуры, Набоков – вот главный объект негативных эмоций ИБ. Представляю, какую внутреннюю рецензию накатал бы он на любой его роман! Здесь, в Америке, бывший фанат Набокова превратился в его ниспровергателя: с теперешней точки зрения ИБ, слава Набокова завышенная, а то и искусственная. Я пытался ему как-то возразить, но ИБ отмахнулся с присущим ему всегда пренебрежением к чужой аргументации. Его раздражает слава другого русского, которая не просто превосходит его собственную, но достигнута средствами, органически ему недоступными. Комплекс непрозаика – вот импульс мемуарной и культуртрегерской литературы самого ИБ.