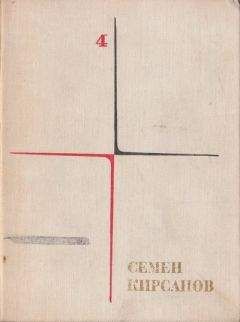В САМОЛЕТЕ
Никаких описаний,
никаких дневников!
Только плыть небесами
и не знать
никого.
И не думать, что где-то
видел это лицо —
коммерсантов,
агентов,
дипломатов,
дельцов.
Плыть
простором ливийским
сквозь закат и рассвет,
пока пьет свое виски
полуспящий сосед.
Незнакомым простором
над песками пустынь
рядом с ревом моторов
плыть
с карманом пустым.
И глядеть —
без желаний,
в пустоте синевы
на пустыню,
где ланей
ждут голодные львы.
А желать,
только чтобы
шли быстрее часы
и к асфальтовым тропам
прикоснулось шасси.
И вернуться, вернуться,
возвратиться
скорей
к полосе среднерусской,
к новой
песне своей.
О бьющихся на окнах бабочках
подумал я, что разобьются,
но долетят и сядут набожно
на голубую розу блюдца.
Стучит в стекло.
Не отступается,
но как бы молит, чтоб открыли.
И глаз павлиний осыпается
с печальных,
врубелевских крыльев.
Она уверена воистину
с таинственностью чисто женской,
что только там — цветок, единственный,
способный подарить блаженство.
Храня бесстрастие свое,
цветок печатный безучастен
к ее обманчивому счастью,
к блаженству ложному ее.
Над Калужским шоссе
провода
телеграфные
и телефонные.
Их натянутость,
их прямота
благодарностью
птиц переполнила.
Птицы к линиям
мчатся прямым
и считают,
щебеча на роздыхе,
будто люди
устроили им
остановки
для отдыха в воздухе.
И особенно хочется
сесть
на фарфоровые
изоляторы,
по которым
протянута сеть, —
от вечерней зари
розоватые.
Но случается
вспышка и смерть, —
птицы
с провода
падают мертвые…
Виновата
небесная твердь,
где коварно
упрятались молнии.
Люди здесь
вообще ни при чем,
так как видела
стая грачиная
человека
над мертвым грачом
с выраженьем в глазах
огорчения.
Когда капитану Немо
приелось
синее небо —
он в лодке
с командой верной
уплыл в роман Жюля Верна.
Он бродит
в подводных гротах,
куда не доходит грохот
ни города,
ни паровоза,
в водорослях Саргоссы.
В скафандре
бредет на скаты,
где вьются электроскаты,
где люстрами
с волн пологих
спускаются осьминоги.
Поодаль
молчит команда.
Молчит, проходя.
Так надо!
И сжат навсегда,
как тайна,
бескровный рот капитана.
И все это
нет, не лживо, —
в мальчишеских пальцах жив он.
Но лишь прояснится небо —
прочитанный,
он — как не был.
Закрыто,
мертво
и немо
лицо капитана Немо.
О, Рифма,
бедное дитя,
у двери найденный подкидыш,
лепечешь,
будто бы хотя
спросить:
«И ты меня покинешь?»
Нет, не покину я тебя,
а дам кормилице румяной,
богине в блузе домотканой,
и кружева взамен тряпья.
Играй, чем хочется тебе, —
цветным мячом и погремушкой,
поплакав, смейся,
потому что
смех после плача — А и Б.
Потом узнаешь весь букварь:
ведро, звезда, ладонь, лошадка,
деревья зимнего ландшафта
и первый школьный календарь.
И поведет родная речь
в лес по тургеневской цитате,
а жизнь,
как строгий воспитатель,
поможет сердце оберечь.
И ты мою строфу найдешь,
сверкая ясными глазами,
перед народом,
на экзамен
под дождь,
осенних листьев дождь…
И засижусь я до зари,
над грустной мыслью пригорюнясь,
а Рифма,
свежая как юность,
в дверь постучится:
«Отвори!»
Осторожно входит весна,
осторожно,
тревожно…
Еще даль никому не ясна:
что нельзя
и что можно?
Мы с тревогой
ждем телеграмм
и волнуемся очень,
оттого что
жизнь не игра,
человек непрочен.
Вдруг подует ветер другой,
а друзей,
на беду, нет.
И тебя смахнет, как рукой,
как пылинку
сдунет.
Подуло серым севером,
погнуло лес ветрами, —
прощайтесь, листья, с деревом,
прощайся, сад, с цветами!
Пришла пора прощания,
дождя и увяданья,
вокзальное, печальное
«прощай» без «до свиданья».
В траве, покрытой листьями,
всю истину узнавший,
цветет цветок единственный,
увянуть опоздавший.
Но ты увянешь все-таки,
поникший и белесый, —
все паутины сотканы,
запутались все осы…
Ты ж, паучок летающий,
циркач на топком тросе, —
виси, вертись, пока еще
зимой не стала осень!
Нет, не то золото,
то звенит, как золото,
а вот то золото,
когда сердце — золото.
И не тот алмаз,
что лучист, как алмаз,
а кто чист, как алмаз,
мне милей, чем алмаз.
И не то дорого,
что ценой дорого, —
что душе дорого —
без цены дорого.
И не та красота, —
что лицом красота, —
красота — только та,
что во всем красота.
И не тот милый мой,
кто на час милый мой,
кто на век милый мой,
тот и милый, и мой.
И не то хорошо,
что себе хорошо, —
только то хорошо,
что для всех хорошо.