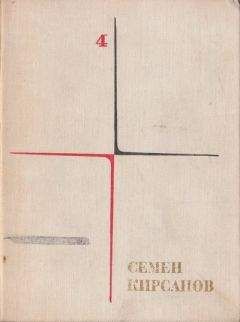ШЕСТАЯ ЗАПОВЕДЬ
В ночь,
бессонницей обезглавленную,
перед казнью
моей любви
я к тебе простираю
главную
заповедь:
«Не убий!»
Не убий
ни словом,
ни взглядом!
Ни вдали,
ни когда мы рядом.
Беатриче,
Лаура,
Лючия, —
адом Данте
и всем, что мучило,
и дуэлью
среди снегов,
и шинелью,
снятой с него
секундантами
на опушке,
на могиле, —
Наталия Пушкина,
заклинаю,
ступни обвив:
не убий,
не убий любви!
Ни открыто,
ни мысленно
не убий!
Ни безжалостию,
ни милостыней
не убий!
Лаура моя,
дорогая моя,
целуемая
и ругаемая,
но под солнцем и звездами
лучшая,
Беатриче,
Наталия,
Лючия,
милосердная
и жестокая,
аще столько я
претерпел
в сей День седьмый,
умоляю тя:
не убий!
Не сбивавшего
цвет с растения,
не замешанного
в растлениях
и в терзавших
Спасителя
терниях,
не виновного —
не убий!
Умоляю тя:
пощади
во мне
дитя!
Не казни
своего дитяти —
сердца
в люльке моей души,
не круши его,
не убей,
как нельзя казнить
голубей.
Не должна
подлежать петле
белка,
дремлющая в дупле,
и стучащий о древо
дятел,
и катающийся у ног
щенок,
кенгуренок,
залегший в чрево,
и скользящий травою
уж,
и дельфин,
мореходец быстрый,
и червяк дождевой
у луж
не должны
подлежать убийству, —
пусть живут,
пусть летят,
плывут…
А любовь —
ведь твое дитя, —
не казни,
умоляю тя!
В смертной камере
одиночества
и стеная
наедине —
при бессоннице,
среди ночи встав,
я хожу
от стены к стене,
на тюремном полу
в персти
простираю к тебе
персты…
Ни одной обиды
не помнящий,
ожидающий
скорой помощи,
если я позову —
«приди»,
ты приди
и коснись груди,
где любовь лепечет —
«жива еще»,
и скажи: —
Человек, гряди!
Я гряду,
почти умирающий,
подымая,
как веки Вий,
руки слабые,
умоляющие:
— Не убий любви,
не убий!..
Любезность —
не любовь.
А ну ее, «любезность»!
Живут,
не хмуря лбов,
любезные — и бе́з нас.
Лобзать
и не любить?
И лебезить при этом?
Я не любитель
быть
объятий их объектом.
Спасающая нас
любовь —
не резонерство,
и в самый тяжкий час
любезность
резанет вас.
Любезность —
лишь под цвет
любовей настоящих, —
вбегающих
чуть свет
и для тебя не спящих;
не смеющих
тебя
в опасный час покинуть,
готовых
хоть с себя
жизнь,
как рубашку, скинуть
Таких —
в нужде,
в войне —
хочу я видеть снова,
не говорящих
мне
любезного — ни слова!
Щеглы попали в клетку.
Ко мне привел их путь.
Но я задумал —
к лету
свободу им вернуть.
Грустят в тюремном быте
с приятелем щегол.
Я тоже не любитель
задвижек и щеколд.
И птицам нет расчета.
Неволя —
не житье.
Решетка есть решетка,
хоть золоти ее.
Уже весной запахло,
ручьи по мостовой,
снежинка стала каплей,
и стужа теплотой.
Окно раскрыл я настежь,
и клетку я раскрыл.
Стою и жду.
Так нате ж, —
не расправляют крыл!
Свобода, братцы!
Солнце!
Природа так щедра!
Я взял
и за оконце
подбросил вверх щегла.
Летите,
мчитесь вместе
к друзьям своим лесным!
Смотрю —
один на месте,
смотрю —
второй за ним,
и ну, к кормушке —
пичкать
зерном свои зобы.
…Привычка
есть привычка
к превратностям судьбы.
А ведь момент
действительно течет,
а не мелькает.
Медленно и долго
течет момент,
как маленькая Волга,
и в вечность
все явления влечет…
Его частиц
непознаваем счет,
и может в нем теряться,
как иголка,
частица счастья,
и крупица долга,
и боль,
что сердце надвое сечет.
Чушь!
Не течет момент.
И течь не должен.
Ни с места он
и вечно недвижим,
как лед,
который лыжами заскольжен.
Не убавляем он,
не растяжим,
не начат никогда
и не продолжен.
А это мы —
скользим,
течем,
бежим…
Садился старичок в такси,
держа пирог
в авоське,
и, улыбнувшись сквозь усы,
сказал: —
До Пироговской.
Он как бы смаковал
приезд
и теплил умиленье,
что внучка
пирога поест
и сядет на колени…
Три рослых парня
у такси
рванули настежь дверцу
и стали
старичка тащить
за отворот у сердца.
За борт
авоську с пирогом
и старичка туда же,
и с трехэтажным матюгом!
— Жми, друг,
куда покажем!
Стоял свидетель
у столба,
как очередь живая,
он что-то буркнул
про себя,
сей факт переживая.
Прошло
прохожих штуки три
в трех метрах от машины,
но что в них делалось
внутри —
как знать? —
они спешили.
Ждала их служба
или флирт? —
гадать считаю лишним,
а может, в них
бурлил конфликт
общественного с личным?
Про этот случай
рассказал
мне продавец киоска;
он видел,
как старик упал
и с пирогом авоська.
Он возмущался
громко, вслух,
горел, как сердце Данко,
но не вмешался,
так как лук
отвешивал гражданкам.
Затем явился
некий чин,
пост на углу несущий,
и молвил:
— Стыдно, гражданин
уже старик, а пьющий.