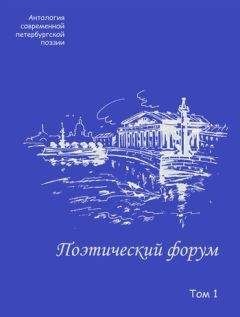Солнце ходит на могиле друга.
Подожгло рябинку, как свечу.
Третий год разлука и разлука…
Я привык. Я больше не кричу,
не зову. Поверил. Всё напрасно.
И душа смирилась и согласна.
И теперь я даже не хочу
вспоминать застолья и дороги,
повторять над ним его же строки, —
боль такая мне не по плечу.
Постою… как будто на пороге,
в горле ком солёный проглочу…
Мы поднялись в атаку на рассвете
Навстречу смертоносному огню.
Я ничего страшней не знал на свете
И до сих пор всё в памяти храню.
Снаряды рвались с грохотом и воем
То вдалеке, то будто бы во мне.
Казалось, что погибло всё живое
На этой трижды проклятой войне.
Кольнуло в бок, но я, крича подранком,
Вдруг осознал, что выстоять могу.
И побежал вперёд за грузным танком,
Обманывая пули на бегу…
* * *
Я вижу:
В детстве дорогом —
Мой дед кроит ножом горбушки,
И говорит,
Светясь лицом:
«Держите,
Дети,
Поцелушки!»
Мы бережно тот хлеб берём,
И истово к губам подносим…
Съедим и…
Снова хлеба просим…
И пахнет солнцем отчий дом.
А годы – словно санки с горок…
Ну, кто сказал, что мы стары?
Ведь нам всего чуть-чуть за сорок
От нашей свадебной поры.
Я вновь у памяти, как пленный,
О юных днях слагаю стих,
Когда казалась нам Вселенной
В ночи скамейка на двоих.
Опять я там, в таёжном мире,
Где повстречались две судьбы…
Где на любовь благословили
Нас «Красноярские столбы».
Там – годы юности благие…
Им век светиться, как огням.
И пусть живёт в нас ностальгия
По тем давно-давнишним дням.
* * *
С осенних туч на чёрном парашюте
Ночь опустилась к моему окну.
И я опять в объятьях тихой жути,
Опять у одиночества в плену.
Весь мир уснул – все от забот устали,
В безмолвии покой свой обрели.
Лишь я и ночь – вдвоём на пьедестале
Вращающейся медленно Земли.
Карельская волость (Фотография столетней давности)
Серьёзнейшие ражие карелы
Да в нафиксатуаренных усах.
Проборов свежевыбритые стрелы —
Чтобы на фото не попасть впросак.
А рядышком – ядрёные карелки,
Упруги, но нисколько не толсты.
И можно смело ставить по тарелке
Туда, куда прикидываешь ты.
Да ребятишек шаловливо-кротких
На корточки присевший прыткий строй:
Тебе – и мореплаватель, и плотник,
А хочешь – академик и герой.
Бокастые пятнистые коровы
Пожёвывают спелые холмы,
И я не знаю, от какой хворобы,
На том же месте подыхаем мы?!
До самых майских праздников не тая,
Вцепился снег в помятые поля…
И дело ль мне до Штатов и Китая?! —
Я размышлял по слякоти руля.
Кружится северная вьюга,
как саван безысходен снег.
Россия. Ночь. Медвежий угол.
И на исходе чёрный век.
Люблю простое – хлеб да сало,
морозный дух седой зимы.
Но что в наследство нам осталось?
И что ж другим оставим мы?
Как птахе – мне присуще пенье.
Так неужели после нас
останется лишь запустенье,
безликость лиц, угрюмость глаз?
И всё-таки зима не вечна!
Мы ждём рассвет. Мы ждём весну —
ведь снег, летящий мне навстречу,
даст жизнь грядущему зерну!
С прискоком весело и споро
промчался дождик у берёз.
Ах, день Победы, День, в котором
есть привкус горечи и слёз.
Прошли все мыслимые сроки,
но по весне и в листопад
ещё с надеждой на дороги
старухи древние глядят.
Ещё, когда грохочут грозы,
тревожны души и сердца,
ещё не выплаканы слёзы
у всей России до конца.
Маме перевёл с белорусского Виталий Летушев
Нет, не в этом твоя материнская сила,
Что рубашечки наши стирала и шила,
Что ладони в работе сводило до боли —
Это только твоя материнская доля.
Вспоминаю тебя в партизанских обозах,
Ты скрывала от нас набежавшие слёзы.
Помню день роковой – и отца вдруг не стало,
Только туже платок ты тогда завязала.
Вот таким мне запомнился образ твой милый.
Верно, в этом и есть материнская сила.
* * *
перевёл с белорусского Виталий Летушев
Да, на земле я только гость,
Моё дыхание слилось
Со всем, что дышит и живёт,
Что в мыслях и в душе поёт.
Пока живу я на земле,
Хочу для всех светить во мгле,
Чтоб каждый знал, кого ценить,
Кого лелеять и любить.
Ты тоже гость, как все мы здесь:
Волнуйся, если сердце есть.
* * *
Мой друг,
Всегда,
В большом и малом,
В наш,
Склонный к переменам, век, —
Не изменяйте идеалам, —
Будь то хоть Бог,
Хоть человек!
А то становится противно
От льющихся с трибун речей.
Вчера он пел тирану гимны,
А нынче славит ловкачей…
Не верь лгунам, ханжам —
И точка!
Ищи в самом себе ответ,
Иначе станешь оболочкой,
Где ни ума,
Ни сердца нет!
* * *
Мысли катятся плавно,
Обегая свой круг,
А подумать о главном
Нам всегда недосуг.
Нет, пугает не сложность,
А беспечность… – Увы!
За которую можно
Не сносить головы…
Я этого парня запомнил навек —
в выцветшей гимнастерке,
с суровою складкой набрякших век,
с морщинкой в межбровье горькой.
Он костыли положил на траву,
скрутил себе «козью ножку»,
и было во взгляде его: «Живу!
Ещё… поживу… немножко».
И в этой военной разрухе, в пыли,
глаза его мне говорили:
«Ты смотришь и думаешь – костыли,
а это, браток мой, крылья!»
* * *
Когда есть смерть, бессмертье быть должно, —
не славы громкий путь, не сладостные враки,
нет, не награды за труды, – оно,
как антипод, как дерзкий свет во мраке!
Оно во мне сегодня говорит,
презрев тщету слов гордых и красивых.
Да, плоть мою природа растворит,
но душу растворить она не в силах.
* * *
Слова живут не на бумаге.
У них есть собственный секрет:
Они линяют,
словно флаги
Былых сражений и побед.
Они ветшают и хиреют,
И высыпаются из фраз.
Они уже сердца не греют
И забываются подчас.
Старенье стало незаметным.
Но кто же с этим незнаком? —
Мы с вами говорим газетным,
А чаще —
книжным языком…
Но там,
где в солнечных накрапах
Лежит земля,
густеет лес, —
Слова имеют цвет и запах,
Слова имеют звон и вес.
И иногда довольно мига,
Великого наверняка, —
Случайно их захватит книга, —
И станет вечною строка…
* * *
(Отрывок из поэмы «Хлеб»)
Васильевский заснежен остров.
Меня на санках привезли.
И мыли долго, и скребли,
Соскабливая с ног коросту.
Мне так хотелось есть, признаться,
Я думать о другом не мог.
И мне налили суп в солдатский,
Помятый боем котелок.
Я обжигался влагой жадно,
Такой немыслимой еды,
Хоть состоял тот суп, пожалуй,
Почти что из одной воды.
Я ел! И не наелся, каюсь,
А повар заглянул в котёл,
Чего-то там найти пытаясь,
Но ничего в нём не нашёл.
Тогда он, усмехнувшись горько,
Засунул руку в свой карман
И вытащил сухую корку,
Сказал мне тихо: «На, пацан»…
С тех пор я много перевидел
Мордастых, толстых, будь здоров,
В парадном и в затёртом виде
И злых, и добрых поваров.
Но, как сейчас, того я вижу
В затёртом косо колпаке.
И хлеб, протянутый мне, – жизнь —
В солдатской худенькой руке.
* * *
Люблю дубов державные стволы.
Мне клёны – братья, сёстры мои – сосны!
Как хорошо, когда кругом – свои!
Ломает смех кору тоски несносной.
Прольётся дождь – и смоет пыль с листвы,
Дохнёт зима – и умирают листья,
Но в мае снова – выше головы! —
Витают в кронах молодые мысли.
Я знаю место под одной ольхой,
Укромней нет во всей родной округе,
Там, всё простив в моей судьбе лихой,
Горит цветок желанных губ подруги.
Его не сжечь холодною росой,
Не погасить в осенний хмурый вечер,
Не загубить – ни стужей, ни грозой,
Не позабыть – ведь он, как юность, вечен.
* * *
Сколько нынче солнечного света,
Нынче столько синего тепла!
Роща – после зимнего запрета —
Первыми цветами расцвела.
Собирайся, да пора воочью
Порадеть зелёным жилкам трав,
Слышишь? – птицы зазывают в рощу,
Распевая с раннего утра.
Вместе с ними встанем спозаранку,
Прочь прогоним бред ночной беды,
Мы разыщем светлую полянку,
Где и нашей юности следы.