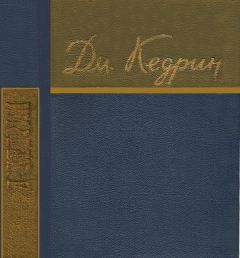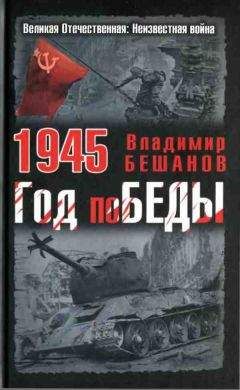У старой землянки
Проносятся весны, уносятся весны.
Вздымаются к небу могучие сосны.
И в спилах дерев — многоцветные кольца,
как память о том, что я был комсомольцем.
...В сосновой тиши, на забытой полянке
мы с дочкой нашли котлован от землянки.
А в центре, где взвод наш ютился когда-то,
зеленый дневальный — сосна вполобхвата.
Когда ж ты успела — из крошечки-семечка?
И сколько же минуло времени-времечка?!
Но в спил не взглянуть — от корья до средины.
И не перечесть календарные кольца...
Вдруг ветер смахнул седину и морщины,
и вновь я увидел себя комсомольцем.
И юность, моя комсомольская юность
к землянке со взводом из боя вернулась.
И — слышишь? — в соседнем густом мелколесье
вновь завелась наша взводная песня.
И жизнь не прожита, и песнь не допета.
И каждый уверен: «...вернусь, Лизавета».
...Недлинно нам песенки пела война.
И все ж я вернулся. — Ну, здравствуй, сосна!
День Победы прогремит, блистая,
День предельной, полной чистоты, —
Тронув солнце свежими листами,
Крупные раскроются цветы...
Так и думала я ледяною ночью,
Но совсем другим тот день настал,
Не слепил, увиденный воочью,
Не гремел, цветами не сиял...
Но такою тишиною встретил
И такою радостью вошел,
Что любую мелочь ты заметил,
Полюбил, подумал: «Хорошо!»
На ребячьей маленькой ладони
Под стаканом тянется росток...
Вот он водружен на подоконник,
Чтоб спокойно развернуться мог...
Мир еще спокойнее и лучше
У истоков всех своих дорог.
Тучи? Все прошли на запад тучи,
Все лучи стремятся на восток!
Варвара Вольтман-Спасская
О первый взрыв салюта над Невой!
Среди толпы стоят у сфинксов двое:
Один из них незрячий, а другой
Оглох, контуженный на поле боя.
Над нами залпы щелкают бичом,
И все дрожит от музыки и света.
Зеленые и красные ракеты
Павлиньим распускаются хвостом.
То корабли военные, линкоры
Палят в честь нас и в честь самих себя.
Свою победу торжествует город,
И не снаряды в воздухе свистят.
Нет, мир вокруг такой прекрасный, звонкий,
Что хочется нам каждого обнять...
А дети на руках, раскрыв глазенки,
Огни ракет пытаются поймать.
Казалось, елка в новогодних блестках
Повисла над ликующей рекой...
Так в эту ночь слепой — увидел звезды
И гимн победе услыхал глухой.
1944
В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством
Где черта?
Нам в сорок третьем
Выдали медали,
И только в сорок пятом —
Паспорта.
И в этом нет беды...
Но взрослым людям,
Уже прожившим многие года,
Вдруг страшно оттого,
Что мы не будем
Ни старше, ни взрослее,
Чем тогда...
Опять война,
Опять блокада...
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда:
«Не надо,
Не надо раны бередить».
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне.
И может показаться:
Правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда —
Не права!
Чтоб снова
На земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно,
Чтобы наши дети
Об этом помнили,
Как мы!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она,
Как сила, нам нужна...
В сорок третьем году в Душанбе
Мама тихо сказала: «Тебе
Здесь придется освоиться, Татка,
Эти горы надежно стоят.
Я спасла тебя. Мы в Ленинград
Никогда не вернемся обратно.
Так тепло, так приветливо тут;
Это толстое дерево — тут,
А с пятнистой корою — платаны.
У тебя загорела спина.
Скоро ты оживешь. Но сперва
На жаре не снимай сарафана».
Время ждет, чтоб увидели вы,
Как я за руку маму держала
И лицо ее в бликах листвы
Колебалось, смущалось, дрожало.
Я глядела на смуглые лбы
Непоспешной, красивой толпы.
На нее я глядеть не могла:
Жалость горло свела.
Я и в эту минуту, сейчас,
Нажимая пером на бумагу —
Горлом сдавленным, — маминых глаз
Виноватую помню отвагу.
Я не крикнула ей: «Не реви!
Я тебя никогда не покину...»
Мне мешала ангина любви,
Ностальгии ангина.
Если в летнем сквозном кинозале,
На отвесном куске полотна,
Заслоненный людьми и слезами
Город тот выплывал из темна,
Я лишалась дыханья и тела:
Выраставшего сердца звезда,
Добела разгораясь, летела,
Устремлялась к нему навсегда...
Мама тихо сказала: «Ну вот,
Мы и дома. У самых ворот
Помнишь, та разорвалась фугаска,
И тебя откопал морячок.
Ну, не буду. Не буду. Молчок.
Ты довольна, моя черноглазка?»
Весны целомудренны краски
И нежен дыхания пар.
Похоже, боится огласки
Воскресший из гибели парк.
Еще как бы издали глядя
На озера сизую гладь,
Он весь отдается отраде —
Присутствовать в жизни опять.
Начало блаженно. Он медлит,
Он силы свои позабыл...
Неужто железным и медным
И наголо смертным он был?!
Взирая, впивая, внимая,
Весь — деепричастие он.
И вдруг — с наступлением мая,
Заполнит собой небосклон.
Мы знали всё: дороги отступлений,
Забитые машинами шоссе,
Всю боль и горечь первых поражений,
Все наши беды и печали все.
И нам с овчинку показалось небо
Сквозь «мессершмиттов» яростную тьму,
И тот, кто с нами в это время не был, —
Не стоит и рассказывать тому.
За днями дни. Забыть бы, бога ради,
Солдатских трупов мерзлые холмы,
Забыть, как голодали в Ленинграде
И скольких там не досчитались мы.
Нет, не забыть — и забывать не надо
Ни злобы, ни печали, ничего...
Одно мы знали там, у Ленинграда,
Что никогда не отдадим его.
И если уж газетчиками были,
И звали в бой на недругов лихих,
То с летчиками вместе их бомбили
И с пехотинцами стреляли в них.
И, возвратись в редакцию с рассветом,
Мы спрашивали: живы ли друзья?
Пусть говорить не принято об этом,
Но и в стихах не написать нельзя.
Стихи не для печати. Нам едва ли
Друзьями станут те редактора,
Что даже свиста пули не слыхали, —
А за два года б услыхать пора.
Да будет так. На них мы не в обиде.
Они и ныне, веря в тишину,
За мирными приемниками сидя,
По радио прослушают войну.
Но в час, когда советские знамена
Победа светлым осенит крылом,
Мы, как солдаты, знаем поименно,
Кому за нашим пировать столом.
Август 1943