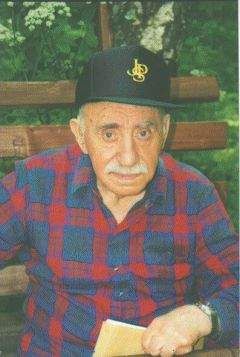01.08.1983
В иной какой-то жизни был духовен
И музыкален, кажется, мой слух,
В теперешнем рожденье стал я глух,
И глухотой другою, чем Бетховен.
Но твердо знаю: музыка — весна.
Красноречиво, хоть и бессловесно,
Нам говорит о том, что всем известно.
И все же в каждом звуке — новизна.
Что ей слова, когда есть шелест, шорох
И дальние признания скворца,
Когда сирень у самого лица
И юность яблонь в свадебных уборах,
И все земное светом налито,
И сколько листьев, столько и мелодий,
И что-то просыпается в природе,
Я силюсь вспомнить и не помню — что?
14.06.1983
НАДПИСЬ НА ВОСТОЧНОЙ КНИГЕ
Зачем непрочные страницы множить
И в упоенье, в темноте надменной
Выделывать сомнительный товар?
Приходит Время, как халиф Омар,
Чтоб ненароком книги уничтожить,
За исключением одной — священной.
19.07.1983
"О, как балдеет чужестранец…"
* * *
О, как балдеет чужестранец
В ночном саду среди пустыни,
Когда впервые видит танец
Заискивающей рабыни.
О, как звенят ее движенья,
То вихревидны, то округлы,
Как блещут жизнью украшенья
И глаз стопламенные угли.
А там, за этим садом звездным,
Ползут пески, ползут кругами,
И слышно в их дыханье грозном:
— Вы тоже станете песками.
21.08.1983
Я хочу умереть в июле,
На заре московского дня.
Посреди Рахилей и Шмулей
Пусть положат в землю меня.
Я скажу им тихо: "Смотрите,
Вот я жил, и вот я погас.
Не на идише, не на иврите
Я писал, но писал и о вас.
И когда возле мамы лягу,
Вы сойдите с плит гробовых
И не рвите мою бумагу, —
Есть на ней два-три слова живых".
30.08.1983, Горбово
Ты Господом мне завещана,
Как трон и венец — королю,
На русском, родном, — ты женщина,
На русском тебя восхвалю.
Не знаю, что с нами станется.
Но будем всегда вдвоем,
Я избран тобой, избранница,
Провозглашен королем.
Светлеет жилье оседлое
Кочевника-короля.
Ты — небо мое пресветлое,
Возлюбленная Земля.
09.09.1983
Если бы выставить в музее плачущего большевика.
Маяковский
Все подписал, во всем сознался.
С генштабом Гитлера спознался,
Весь променял партийный стаж
На шпионаж и саботаж.
Листовки, явки, вихрь свободы,
Подполье, каторжные годы,
Потом гражданскую войну, —
Все отдал, чтоб спасти жену:
На двадцать лет она моложе,
Два сына на нее похожи…
И вывел он пером стальным
Свой знаменитый псевдоним,
И зарыдал вблизи музея…
Ежов, наглея и робея,
Смотрел, как плачет большевик,
Но к экспонатам он привык.
05.10.1983
Посольской елки разноцветный сон.
Еще рождественский сияет праздник.
Меж двух коринфских вычурных колонн
Играет пианист-отказник.
Он молод, бородат, щеголеват,
И, кажется, от одного лишь взмаха
Двух птиц — двух легких рук — звучат
Колоколами фуги Баха.
Ему внимают дамы и послы,
Священник православный из Дамаска.
Колонны, кресла сказочно белы,
Но мне мерещится другая сказка:
На палубе толпится нищета.
Что скрыто в будущем туманном?
Как жизнь пойдет? Как будет начата
Там заново за океаном?
Я слышу бормотанье стариков,
Я вижу грязные трущобы
И женщин, но уже без париков,
Глядящих издали на небоскребы,
На ярко освещенный Яшкин-стрит,
На улицы, где маклеруют,
А дети — кто зубрит, а кто шустрит,
А кто беспечно озорует.
Им суждено в Нью-Йорке позабыть
Погромы в Ковно, в Каменец-Подольске,
С акцентом по-английски говорить,
Как некогда по-русски и по-польски.
Один стоит поодаль. Он затих.
С улыбкою на личике нечистом
Он слышит ангелов средь свалок городских,
Он станет знаменитым пианистом.
11.01.1984
Забудем о заботах книжных,
О запылившихся трудах:
Теперь дороже
Нам снизки ласточек недвижных
На телеграфных проводах
И день погожий.
Под кровлей раннего тумана
Мне показалось: лес далек,
Но он был ближе,
Чем мысль, пришедшая нежданно,
Чем этот легкий мотылек,
Плясун бесстыжий.
О чем же мысль пришла? О раннем
Сиянии дерев и трав;
О бесполезном
Раздумье, слитом с умираньем;
О том, что, мир в себя приняв,
Мы в нем исчезнем.
17.11.1984
Зеленое, мокрое поле овса
С улыбкой — иль это смеется роса? —
Взирает на утренние небеса.
За полем, одетые в белый наряд,
Березы свершают старинный обряд:
Молитву они бессловесно творят.
А дальше, за рощей, впадает река
В другую реку, наклонившись слегка,
И старшей подруги вода ей сладка.
А дальше, где в гору идет колея,
Глушилок-страшилищ торчат острия,
А дальше, а дальше — Россия моя.
Россия мздоимцев, Россия хапуг,
Святых упований и варварских вьюг.
И мерзко хмельных и угодливых слуг.
И пусть по России прошелся терпуг,
Россия — росою обласканный луг
И памятный первый погромный испуг.
23.07.1984
Тяжелые белые шубы медвежьи
На елях развесил Январь,
И звездочка в небе, в бездонном безбрежье,
Горит, как на барже фонарь.
Я чужд этой ночи, и логову елей,
И тропке, ползущей в снегу,
И лишь фонарю, что горит еле-еле,
Открыть свою тайну могу.
Не знает зима, как ей быть с посторонним
Со мной, с огоньком надо мной.
Мы вместе угаснем, мы вместе утонем
В безбрежной пучине ночной.
1984
Над грубым гуденьем вагонов
Сияющий храм вознесен,
Но вместо малиновых звонов —
Малиновки сдавленный звон.
О чем же грустишь ты, зорянка?
О том, что покорствуем зря?
О том, что пустая приманка —
Лесное тепло сентября?
О том, что хочу не другую,
А эту дорогу топтать,
И вместе с тобою тоскую
О дерзости громко роптать.
1984
Вот я вижу тебя сквозь очередь,
Где в былое пятятся годы,
Соименница дерзкой дочери
Сандомирского воеводы.
Как привыкла ты, пообедали
В метростроевской мы обжорке,
На закате зимнем проведали
Те, что помнила ты, задворки.
Вот любуемся мы домишками
И церквами Замоскворечья,
На тебе, как на князе Мышкине,
Тонкий плащ топорщил оплечья.
О декабрьской забыв суровости,
Мне своим говорком московским
Сообщала старые новости
О Бальмонте, о Мережковском.
Притворились, что не заметили,
Как над нами кружится стужа.
Где присяжные? Где свидетели?
Где Париж? Где погибель мужа?
А порой от намека слабого
Поднималась надменно бровка…
Далека, далека Елабуга
И татарская та веревка.
1984
В стране деревьев и цветов лесных
Я думаю о существах иных.
Я думаю о близких существах,
Осмысленных в цветах и деревах.
Мне кажется, что легкая сосна —
Та девочка, чья южная весна
Пролепетала в отроческий час
Мне первый и пленительный отказ.
Мне кажется: акация, как мать,
Откинула серебряную прядь,
И говорят мне белые цветы:
"Все правильно, мой мальчик, сделал ты".
Я вижу старый искривленный дуб.
Рисунок узнаю отцовских губ.
Еще мгновенье — он уйдет во тьму,
Сейчас не хватит воздуха ему.
А кто стоит среди кустов и трав,
А сам, как лес, как целый лес, кудряв?
И ствол его, до самой купины
Обугленный дыханием войны,
Навеки, прочно в эту землю врос,
Ничто ему ни вьюга, ни мороз,
Всегда во мне, поныне с давних пор,
Исследующий, требующий взор.
Одетое душистою листвой,
Мне деревце кивает головой,
И я на голос двигаюсь ольхи,
Читающей безумные стихи,
И жаром араратского огня
Два разных глаза веют на меня.
1984