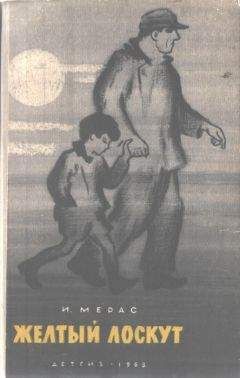ХУЛИГАН
Ливень докладов.
Преете?
Прей!
А под клубом,
гармошкой избранные,
в клубах табачных
шипит «Левенбрей»,
в белой пене
прибоем
трехгорное…
Еле в стул вмещается парень.
Один кулак —
четыре кило.
Парень взвинчен.
Парень распарен.
Волос взъерошенный.
Нос лилов.
Мало парню такому доклада.
Парню —
слово душевное нужно.
Парню
силу выхлестнуть надо.
Парню надо…
– новую дюжину!
Парень выходит.
Как в бурю на катере.
Тесен фарватер.
Тело намокло.
Парнем разосланы
к чертовой матери
бабы,
деревья,
фонарные стекла.
Смотрит —
кому бы заехать в ухо?
Что башка не придумает дурья?!
Бомба
из безобразий и ухарств,
дурости,
пива
и бескультурья.
Так, сквозь песни о будущем рае,
только солнце спрячется, канув,
тянутся
к центру огней
от окраин
драка,
муть
и ругня хулиганов.
Надо
в упор им —
рабочьи дружины,
надо,
чтоб их
судом обломало,
в спорт
перелить
мускулья пружины, —
надо и надо,
но этого мало…
Суд не скрутит —
набрать имен
и раструбить
в молве многогласой,
чтоб на лбу горело клеймо:
«Выродок рабочего класса».
А главное – помнить,
что наше тело
дышит
не только тем, что скушано;
надо —
рабочей культуры дело
делать так,
чтоб не было скушно.
РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ ДЕСАНТНЫХ СУДОВ: «СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И «КРАСНАЯ АБХАЗИЯ»
Перья-облака,
закат расканарейте!
Опускайся,
южной ночи гнет!
Пара
пароходов
говорит на рейде:
то один моргнет,
а то
другой моргнет.
Что сигналят?
Напрягаю я
морщины лба.
Красный раз…
угаснет,
и зеленый…
Может быть,
любовная мольба.
Может быть,
ревнует разозленный.
Может, просит:
«Красная Абхазия»!
Говорит
«Советский Дагестан».
Я устал,
один по морю лазая,
подойди сюда
и рядом стань. —
Но в ответ
коварная
она:
– Как-нибудь
один
живи и грейся.
Я
теперь
по мачты влюблена
в серый «Коминтерн»,
трехтрубный крейсер.
– Все вы,
бабы,
трясогузки и канальи…
Что ей крейсер,
дылда и пачкун? —
Поскулил
и снова засигналил!
– Кто-нибудь,
пришлите табачку!..
Скучно здесь,
нехорошо
и мокро.
Здесь
от скуки
отсыреет и броня… —
Дремлет мир,
на Черноморский округ
синь-слезищу
морем оброня.
ПИСЬМО ПИСАТЕЛЯ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА МАЯКОВСКОГО ПИСАТЕЛЮ АЛЕКСЕЮ МАКСИМОВИЧУ ГОРЬКОМУ
Алексей Максимович,
как помню,
между нами
что-то вышло
вроде драки
или ссоры.
Я ушел,
блестя
потертыми штанами;
взяли Вас
международные рессоры.
Нынче —
иначе.
Сед височный блеск,
и взоры озаренней.
Я не лезу
ни с моралью,
ни в спасатели,
без иронии,
как писатель
говорю с писателем.
Очень жалко мне, товарищ Горький,
что не видно
Вас
на стройке наших дней.
Думаете —
с Капри,
с горки
Вам видней?
Вы
и Луначарский —
похвалы повальные,
добряки,
а пишущий
бесстыж —
тычет
целый день
свои
похвальные
листы.
Что годится,
чем гордиться?
Продают «Цемент»
со всех лотков.
Вы
такую книгу, что ли, цените?
Нет нигде цемента,
а Гладков
написал
благодарственный молебен о цементе.
Затыкаешь ноздри,
нос наморщишь
и идешь
верстой болотца длинненького.
Кстати,
говорят,
что Вы открыли мощи
этого…
Калинникова.
Мало знать
чистописаниев ремесла,
расписать закат
или цветенье редьки.
Вот
когда
к ребру душа примерзла,
ты
ее попробуй отогреть-ка!
Жизнь стиха —
тоже тиха.
Что горенья?
Даже
нет и тленья
в их стихе
холодном
и лядащем.
Все
входящие
срифмуют впечатления
и печатают
в журнале
в исходящем.
А рядом
молотобойцев
анапестам
учит
профессор Шенгели.
Тут
не поймете просто-напросто,
в гимназии вы,
в шинке ли?
Алексей Максимович,
у Вас
в Италии
Вы
когда-нибудь
подобное
видали?
Приспособленность
и ласковость дворовой,
деятельность
блюдо-рубле – и тому подобных «лиз»
называют многие
– «здоровый
реализм». —
И мы реалисты,
но не на подножном
корму,
не с мордой, упершейся вниз, —
мы в новом,
грядущем быту,
помноженном
на электричество
и коммунизм.
Одни мы,
как ни хвалите халтуры,
но, годы на спины грузя,
тащим
историю литературы —
лишь мы
и наши друзья.
Мы не ласкаем
ни глаза,
ни слуха.
Мы —
это Леф,
без истерики —
мы
по чертежам
деловито
и сухо
строим
завтрашний мир.
Друзья —
поэты рабочего класса.
Их знание
невелико,
но врезал
инстинкт
в оркестр разногласый
буквы
грядущих веков.
Горько
думать им
о Горьком-эмигранте.
Оправдайтесь,
гряньте!
Я знаю —
Вас ценит
и власть
и партия,
Вам дали б все —
от любви
до квартир.
Прозаики
сели
пред Вами
на парте б:
– Учи!
Верти! —
Или жить вам,
как живет Шаляпин,
раздушенными аплодисментами оляпан?
Вернись
теперь
такой артист
назад
на русские рублики —
я первый крикну:
– Обратно катись,
народный артист Республики! —
Алексей Максимыч,
из-за Ваших стекол
виден
Вам
еще
парящий сокол?
Или
с Вами
начали дружить
по саду
ползущие ужи?
Говорили
(объясненья ходкие!),
будто
Вы
не едете из-за чахотки.
И Вы
в Европе,
где каждый из граждан
смердит покоем,
жратвой,
валютцей!
Не чище ль
наш воздух,
разреженный дважды
грозою
двух революций!
Бросить Республику
с думами,
с бунтами,
лысинку
южной зарей озарив, —
разве не лучше,
как Феликс Эдмундович,
сердце
отдать
временам на разрыв.
Здесь
дела по горло,
рукав по локти,
знамена неба
алы,
и соколы —
сталь в моторном клекоте —
глядят,
чтоб не лезли орлы.
Делами,
кровью,
строкою вот этою,
нигде
не бывшею в найме, —
я славлю
взвитое красной ракетою
Октябрьское,
руганное
и пропетое,
пробитое пулями знамя!
Знаете ли вы
украинскую ночь?
Нет,
вы не знаете украинской ночи!
Здесь
небо
от дыма
становится черно,
и герб
звездой пятиконечной вточен.
Где горилкой,
удалью
и кровью
Запорожская
бурлила Сечь,
проводов уздой
смирив Днепровье,
Днепр
заставят
на турбины течь.
И Днипро
по проволокам-усам
электричеством
течет по корпусам.
Небось, рафинада
и Гоголю надо!
Мы знаем,
курит ли,
пьет ли Чаплин;
мы знаем
Италии безрукие руины;
мы знаем,
как Дугласа
галстух краплен…
А что мы знаем
о лице Украины?
Знаний груз
у русского
тощ —
тем, кто рядом,
почета мало.
Знают вот
украинский борщ,
знают вот
украинское сало.
И с культуры
поснимали пенку:
кроме
двух
прославленных Тарасов —
Бульбы
и известного Шевченка, —
ничего не выжмешь,
сколько ни старайся.
А если прижмут —
зардеется розой
и выдвинет
аргумент новый:
возьмет и расскажет
пару курьезов —
анекдотов
украинской мовы.
Говорю себе:
товарищ москаль,
на Украину
шуток не скаль.
Разучите
эту мову
на знаменах —
лексиконах алых, —
эта мова
величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты настав…»
Разве может быть
затрепанней
да тише
слова
поистасканного
«Слышишь»?!
Я
немало слов придумал вам,
взвешивая их,
одно хочу лишь, —
чтобы стали
всех
моих
стихов слова
полновесными,
как слово «чуешь».
Трудно
людей
в одно истолочь,
собой
кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет,
мы не знаем украинской ночи.
1917–1926
Если
стих
сердечный раж,
если
в сердце
задор смолк,
голосами его будоражь
комсомольцев
и комсомолок.
Дней шоферы
и кучера
гонят
пулей
время свое,
а как будто
лишь вчера
были
бури
этих боев.
В шинелях,
в поддевках идут…
Весть:
«Победа!»
За Смольный порог.
Там Ильич и речь,
а тут
пулеметный говорок.
Мир
другими людьми оброс;
пионеры
лет десяти
задают про Октябрь вопрос,
как про дело
глубоких седин.
Вырастает
времени мол,
день – волна,
не в силах противиться;
в смоль-усы
оброс комсомол,
из юнцов
перерос в партийцев.
И партийцы
в годах борьбы
против всех
буржуазных лис
натрудили
себе
горбы,
многий
стал
и взросл
и лыс.
А у стен,
с Кремля под уклон,
спят вожди
от трудов,
от ран.
Лишь колышет
камни
поклон
ото ста
подневольных стран.
На стене
пропылен
и нем
календарь, как календарь,
но в сегодняшнем
красном дне
воскресает
годов легендарь.
Будет знамя,
а не хоругвь,
будут
пули свистеть над ним,
и «Вставай, проклятьем…»
в хору
будет бой
и марш,
а не гимн.
Век промчится
в седой бороде,
но и десять
пройдет хотя б,
мы
не можем
не молодеть,
выходя
на праздник – Октябрь.
Чтоб не стих
сердечный раж,
не дряхлел,
не стыл
и не смолк,
голосами
его
будоражь
комсомольцев
и комсомолок.