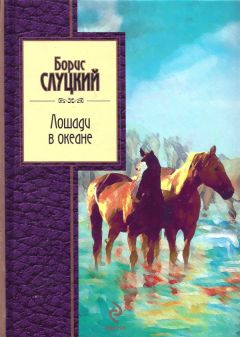15
Желая вовеки больше не видеть нашей земли…
К тому счету, который поляки могли и раньше предъявить России (три раздела Польши и два польских восстания, о которых вспоминает автор), в это время добавился новый кровавый счет: четвертый раздел Польши между Сталиным и Гитлером, бессудный расстрел в Катыни польских офицеров, мытарства, перенесенные уцелевшими поляками и их семьями на советской земле…
Сплю в обнимку с пленным эсэсовцем…
Об этом пленном эсэсовце Слуцкий подробно рассказал в очерке «Себастиан Барбье» (см. наст. изд.).
В книге:
Лежит подбитый унтер на полу.
А в двух шагах, в нетопленом углу,
и санитар его, покорного,
уносит прочь, в какой-то дальний зал… — прим. верст.
…что шестнадцатого октября / сорок первого, плохого года…
16 октября 1941 года радио оповестило москвичей, что в ближайшие часы им предстоит услышать некое важное сообщение. В городе началась паника. Толпы людей устремились к вокзалам. Начальство удирало на автомобилях, простые граждане шли пешком, унося на себе свой нехитрый скарб, а многие и без всякого скарба. В городе появились мародеры, грабившие магазины — преимущественно продуктовые.
Москвичи, пережившие тот день, вспоминают, что выпавший накануне свежий снег почернел от тонн сжигавшейся бумаги: секретные документы жгли на Лубянке, на Старой площади (в здании ЦК партии), в райкомах и райисполкомах. Черным дымом заволокло и небо, так что даже не видны были ставшие уже привычными для москвичей аэростаты воздушного заграждения.
Важное сообщение, о котором радио сообщило с утра, оказалось совсем не важным: в нем говорилось о каких-то пустяках — кажется, о порядке работы санитарно-пропускных пунктов.
По одной версии, главной причиной случившегося было то, что утром этого дня Москву покинул Сталин. (Он будто бы отбыл в Арзамас; почему-то именно в Арзамас, а не в Куйбышев, куда накануне были эвакуированы правительственные учреждения и послы иностранных держав).
По другой версии, Сталин сперва решил подчиниться постановлению Политбюро и покинуть Москву, но в тот же день от этого решения отказался.
Никаких документальных подтверждений как первой, так и второй версии не имеется. Но, уж коли речь зашла о документальном подтверждении того, что происходило в тот день в Москве, сошлюсь на докладную записку А. А. Фадеева на имя секретарей ЦК ВКП(б) — И. В. Сталина, А. А. Фадеева и А. С. Щербакова. В этой докладной записке генеральный секретарь Союза писателей СССР опровергал возведенную на него клевету, что он будто бы утром 16 октября самовольно покинул Москву, бросив на произвол судьбы вверенных его попечению писателей. Фадеев объяснял, что ранним утром этого дня он действительно выехал из Москвы, но не самовольно, а получив на этот счет «указание Комиссии по эвакуации через товарища Косыгина». Что же касается вверенных ему писателей и их семей, которых было около тысячи человек, то, — как сказано в этой записке, — «за 14 и 15 октября и в ночь с 15 на 16 организованным и неорганизованным путем выехала примерно половина этих людей. Остальная половина (из них по списку 186 членов и кандидатов Союза) была захвачена паникой шестнадцатого и семнадцатого октября…».
(Власть и художественная интеллигенция: Документы. 1917–1953. М., 2002. С. 477.)Итак, уже не по слухам и воспоминаниям современников, а на основании этого ответственного документа мы можем со всей определенностью утверждать, что 16 октября 1941 года Москва действительно была захвачена паникой.
Кавалериста, ротмистра, гвардейца, / защитника дуэлей, шпор певца…
Об отце Михаила Кульчицкого, к которому относятся эти строки, Слуцкий рассказывает в очерке «Мой друг Миша Кульчицкий»: «Я его хорошо помню. Он был мрачный, угрюмый, печальный, суровый, важный, гордый. Еще двадцать эпитетов того же ряда тоже оказались бы подходящими.
Сейчас я впервые в жизни подумал, что он был очень похож на сына, на Мишу: то же широкое, полноватое лицо, та же бродячая усмешка. Только она бродила помедленнее.
Отец Миши был одет в старую, вытертую тужурку. Он всегда молчал. Я не помню ни одного разговора с ним. Было бы удивительно, если б он заговорил. Я бы обязательно запомнил.
Зато Миша об отце говорил часто.
Однажды был длинный рассказ о том, как Деникин послал отца на связь с Колчаком через закаспийские пустыни. Несколько месяцев спустя выяснилось, что история восходит к „Сорок первому“ Бориса Лавренева. Будучи пойман, Миша не отрицал. Он усмехался.
Была еще литературная история (из Лескова) с офицерами, картежом, перчатками и дуэлями. Дело было в том, что на отце все эти истории сидели очень удобно и пригнанно…
В справочнике Тарасенкова помечены два сборника стихотворений отца. Но мне помнится, Миша показывал целую пачку книжиц. Среди них были и стихи, и проза — рассуждения об офицерстве, о гвардейской чести, о традициях русского оружия…
Были еще… статьи против Короленко. Спор у отца с Короленко шел о дуэлях. Кульчицкий защищал офицерские дуэли, Короленко клеймил их как варварство, и, хотя Короленко отзывался о Кульчицком без церемоний, сам факт печатного спора с ним переполнял наши души гордостью».
(См. «Мой друг Миша Кульчицкий» — наст. изд.)Отец в гестапо и на фронте — сын / погибли…
«В декабре 1942 года Валентин Михайлович был забит до смерти в подвале харьковского гестапо».
(Петр Горелик, Никита Елисеев. По теченью и против теченья… / Борис Слуцкий. Жизнь и творчество. М., 2009. С. 40.)…я поехал на вокзал, / чтоб около полуночи / послушать, как транзитный зал, / как старики и юноши — / всех наций, возрастов, полов, / рабочие и служащие / недавно, не подняв голов, / один доклад прослушавшие, — / воспримут устаревший гимн…
«Один доклад» — это доклад Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС, вскоре после которого было официально объявлено, что оказавшийся неправильным текст советского гимна, в котором были слова «Нас вырастил Сталин на верность народу», вскоре будет заменен другим — правильным.
Черта под чертою. Пропала оседлость…
Эту последнюю черту под существованием «черты оседлости» — области проживания евреев на территории бывшей Российской империи — подвел Гитлер своим «Окончательным решением еврейского вопроса». До начала Отечественной войны этот мир еврейских местечек, о котором вспоминает Слуцкий, еще существовал. И вот теперь он исчез, канул в небытие, затонул, как некая новая Атлантида.
Об этом же — стихотворение Н. Коржавина:
Мир еврейских местечек…
Ничего не осталось от них.
Будто Веспасиан
здесь прошел средь пожаров и гула.
Сальных шуток своих
не отпустит беспутный резник,
и хлеща по коням
не споет на шоссе балагула…
(Н. Коржавин. Стихи и поэмы. М., 2004. С. 74)
…того — иного, другого, / по имени Иегова…
Иегова — старая транскрипция имени Бога древних евреев (в современной транскрипции — Яхве), фигурирующая в Ветхом Завете — священной книге иудеев и христиан.
…которого он низринул, / извел, пережег на уголь, / а после из бездны вынул и дал ему стол и угол.
В 20-е и 30-е годы Советское государство вело с религией войну на уничтожение. В 1941-м Сталин несколько смягчил этот жесткий курс, предоставив ветхозаветному Богу символический, а его служителям — вполне реальный «стол и угол».
О том, что эти установившиеся новые отношения Сталина с Богом и Церковью были именно таковы, какими изобразил их в этом своем стихотворении Слуцкий, может свидетельствовать такая правдивая история.
Не только во время войны, но и в послевоенные годы тоже на всех съездах и конференциях борцов за мир, среди артистов, писателей, ученых и прочих представителей борющейся с поджигателями войны советской духовной элиты непременно мелькали два-три митрополита в рясах и высоких клобуках. Вид такого митрополита, сидящего в президиуме очередного съезда, придавал мероприятию не только необходимую в таких случаях декоративность, но и служил как бы подтверждением широты и беспартийности развернувшегося всенародного движения.
И вот на одном таком съезде сидящий в президиуме митрополит передал председательствующему — Николаю Тихонову — записку, в которой уведомлял, что он, Такой-то, учился некогда с товарищем Сталиным в духовной семинарии. И выражал робкую надежду, что, быть может, вождю будет интересно с ним встретиться.