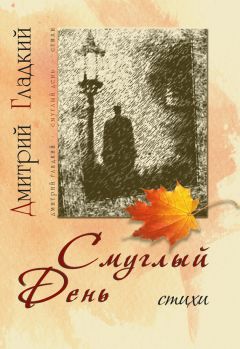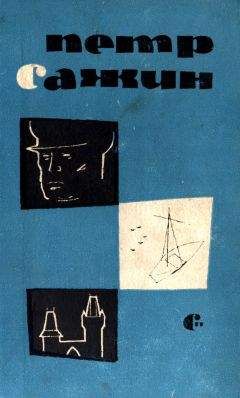Ознакомительная версия.
«Я есть как есть…»
Я есть как есть – кургузый пиджачок,
Залысины, седины, давит печень,
Зато достаточен в себе, как тот желток,
Что утром подаётся всмятку
Горячим, прямо к барскому столу.
И потому живу всегда в оглядку,
И свято верую, что миссией отмечен.
Мне невдомёк, что барин поутру,
Оглядывая постылое жилище,
Подумает: «Какая скукотища!»
Объявит, что весь завтрак был насмарку,
Прикажет выпороть усталую кухарку
И выбросит объедки за окно.
Ему что всмятку, что вкрутую – всё равно.
Есть сладость в предвкушении разлуки, –
Когда в новинку умиранье по слогам.
Ни пошлости тебе, ни хриплой скуки,
Ни зависти к безумцам и богам.
И в беге вижу я покоя очертанья –
Их равенства неоспорим скупой итог,
Как тождество любви и расставанья,
Стрелу с оленем породнивший холодок…
Хочу стреножить время паутинкой,
И тем обманом мудрость обрести, –
Так почитаем мы раскаянья горчинку
За сладкий яд ненужного «прости»!
Но оживу я в роскоши печальной –
Одушевлю все вещи, чтоб познать
Их скрытый смысл, чистый, изначальный
И смысл своей судьбе предначертать.
Возбуждённая, волоокая, в лилиях, ликах,
литературе,
В лиловых ливреях лукавых лакеев лучащаяся.
Видите всех великолепных вальяжных вельмож,
Вылежавших вдосталь всю власть в ложе Вашем?
Вольтера лишь вечером воспоминали?
Всё ледащий возница – в ледоход взалкал водки…
Воротились, возницу – в вериги, выпив вермута,
возлегли.
Лакей Ванька лобзал Вас, вспоминая лошадь,
лишённую ласки.
* * *
– Проснитесь, Матушка-императрица,
пора царствовать!
– Доннер ветер, и в этой стране не дадут поспать!
«Лишь у самого младшего вместо левой руки осталось лебединое крыло: Элиза не успела доплести рукав на последней рубашке».
Г.-Х. Андерсен
Припаси одинокий денёк для меня,
терпеливая внучка Элизы.
Я возьму тишины в оплетённой лозою бутылке,
да немного покоя, чтоб ломтиком тонким нарезав,
сдобрить хлеб зачерствелый из зерна
неотвязных печалей.
Обними меня светом медовым!
Шиповника цветом, пыльцой мотыльковой
притаи синеву моих щёк: так укроем
щетину небритых времён.
Пусть сочатся елейно фокстроты любви отовсюду –
из щелей подсознанья, протянутых рук
и блудниц животов, –
нынче всё целомудренно будет, всё свято…
Это я так хочу – генерал тараканьих парадов,
междометий слепой кукловод,
я, – метафор пастух и разумности вечный расстрига,
истязатель царя в голове, виночерпий
потешных фантазий.
Это я говорю – тихих песен заботливый отчим.
Мне одна полюбилась особо из них –
в голубом полинялом миноре.
То песня о жизни – равнодушной и на руку скорой,
как старый прозектор.
Впрочем, грех на неё мне пенять:
и событья умело кроит,
и раны сшивает тугой паутиной
всемирной сети Интернета.
Вот где гоголем я торжествую, – это равенство
зверю труда!
Не дари, не дари мне своё состраданье,
глуповерная внучка Элизы!
Безрассудно и пошло соперничать с Богом.
А нарви-ка ты лучше крапивы скорей
у гнилого забора эпохи,
да сплети из неё мне такую рубаху,
чтоб впору пришлась.
У бабки твоей в прошлый раз вдруг некстати
закончилась пряжа!
Так и век коротаю с тех пор –
ни якорь поднять, ни взлететь –
без руки, да с одним-то крылом…
Он будто топчется на месте,
не то взлетая, не то падая –
глашатай радужных известий,
что будут для тебя наградою
за терпкий опыт расставаний,
за суетность невечных радостей,
за беспричинность ожидания
тобой выпрашиваемых малостей.
Тебе вернее снов обманчивых
напомнит он о светлом времени,
когда ты большеглазым мальчиком
до звёзд дотягивался теменем.
И ты услышишь, как размеренно,
как будто бы из ничего,
сплетает он сюжет уверенный,
и ты научишься его
науке лёгкой и желанной,
дающей стойкие основы
твоим потешным ожиданиям, –
что жизнь начаться может снова,
что сможешь ты делить и множить
на времена и расстояния
те из своих попыток ложных,
что ожидают окончаний.
Что жизнь как будто станет лучше
в служенье помыслам блестящим.
Что отраженье неба в луже
Вдруг небом станет настоящим.
«В моём голосе нет больше золота…»
В моём голосе нет больше золота,
новых песен не стоит звать.
Что камнями и ветром намолото –
то и будет в печи созревать.
Только истины ищут пристанища
у поэтов от бед и невзгод –
до поры, когда их на ристалище
лишь Господь-весельчак поведёт.
«И море, и Гомер – всё движется любовью.»
О. Мандельштам
Вина и чаши изначальной сути
Единство разности вовек непостижимо:
Создателя вино в им созданном сосуде –
Двух ипостасей спор неразрешимый.
Что есть любовь, когда и винодела,
И гончара усердие одно?
Она ли чаша божьего удела
Или в той чаше пенное вино?
И что любви первичной мерой служит:
Гончарный круг, курчавая лоза?
Быть может, и гадать совсем не нужно,
А истина прозрачна, как слеза, –
Коль сам горшки привычно обжигает
И давит гроздья спелые в руках,
Не тем ли нас примером поучает,
Что изначально утвердил в веках:
Любовь – труда любимое дитя,
Шесть первенцев тому живой пример.
Любовь как дар, приветствуя и чтя,
Трудами движутся и море, и Гомер!
И только труд – мерило всех вещей,
Он и причина мира сотворенья,
И от его мозолистых мощей
Стихом беременеет вдохновенье.
У него,
кто спускается налегке
мне навстречу,
спрошу непременно:
обязательно ли босиком
нести этот крест,
эту тяжкую ношу в гору?
Или можно дорогу
преодолеть в удобных ботинках,
они почти новые…
Развратная беспечность городов,
Где даже воздух заточён в кавычки,
А умирание напуганных богов
Из года в год становится привычней.
И здесь асфальт давно не пахнет хлебом
И молодым – с кислинкою – вином.
Лишь горизонт под этим хищным небом
Топорщится обглоданным ребром.
Больная жизнь выгнулась как кошка, –
Уже не веря ласковым речам,
Она свои секреты осторожно
Несёт навстречу важным палачам…
Завидую тому, кто хочет жить.
Завидую тому, кто умереть спешил.
Мои бесцельные и мрачные прогулки!
Мои распятья старых переулков!
Да что там страсти, – жизнь не перешить,
Она – как воздух – не испить до дна.
Её портной великий порешил
Одёжкою добротной сделать. Так,
Чтоб не топорщился в подмышках мой пиджак.
Он так пошил, чтоб по плечу была,
Чтоб в талии не жала, и могла
Служить мне долго, – всё-таки – одна.
О Кишинёве помню я, что он похож на блюдо
Старинного фаянса, прозрачного на свет,
Где трещины кварталов и скверов изумруды,
И леденцы церквушек сплелись в один сюжет.
Над ним склонится ангел печальный и усталый
И, проведя перстами по сколотым краям,
Он смысл первобытный, пусть даже запоздалый
Вернёт словам и птицам, деревьям и камням.
Проснулся заполночь. Шершавая луна
Гвоздём вонзалась в памяти стигматы:
Больней бывает только новизна
Предчувствий неизбежности утраты,
Когда не лечат ни слова, ни время.
Когда душа, опохмелившись пустотой,
Вкусивши радостей запазушных в Эдеме,
Всё ж к телу прилетает на постой.
А тело трезвое внимает тишине
И видит призраков летучую походку,
И слышит, как в простуженном окне
Осенний дождь наяривает чечётку.
Как не печально? Ей сегодня умирать,
Тебе – чуть после, всё-таки придётся.
И это будет быстро – так и знай,
Что лишь очередной костёр взовьётся,
Ты загрустишь о собственной душе.
Как женщину огню не предавай –
Её не покорить вообще.
Она к тебе, поверь, ещё вернется.
Узорчат день. Фарфором антикварным
Сквозят сады пронзительно и тонко.
И глянет осень на меня печальным
Нахохлившимся чёрным воронёнком.
А в ней самой – повадки птицелова:
Она силки расставит не спеша,
Чтоб в дёгте нераспознанного слова
Забилась легковерная душа.
Забьётся и замрёт. Зачем ей облака?!
Она с ладони осени послушно
Клюёт лениво зёрнышко стиха
И вглубь себя взирает равнодушно.
Ознакомительная версия.