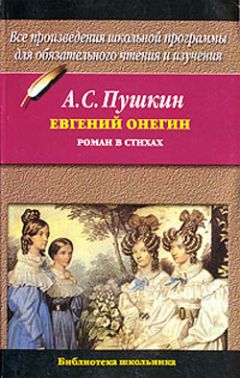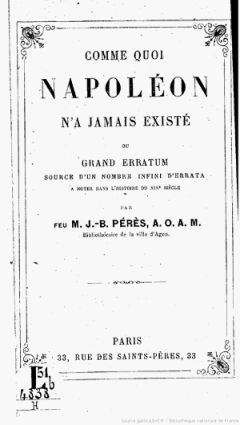XXIII
Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила,
Глаза как небо голубые;
Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голос, легкий стан —
Всё в Ольге… но любой роман
Возьмите и найдете, верно,
Ее портрет: он очень мил,
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно.
Позвольте мне, читатель мой,
Заняться старшею сестрой.
Ее сестра звалась Татьяна…[29]
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.
И что ж? оно приятно, звучно;
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей! Мы все должны
Признаться: вкусу очень мало
У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах);
Нам просвещенье не пристало,
И нам досталось от него
Жеманство, – больше ничего.
Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная, боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.
Задумчивость, ее подруга
От самых колыбельных дней,
Теченье сельского досуга
Мечтами украшала ей.
Ее изнеженные пальцы
Не знали игл; склонясь на пяльцы,
Узором шелковым она
Не оживляла полотна.
Охоты властвовать примета,
С послушной куклою дитя
Приготовляется шутя
К приличию, закону света,
И важно повторяет ей
Уроки маменьки своей.
Но куклы даже в эти годы
Татьяна в руки не брала;
Про вести города, про моды
Беседы с нею не вела.
И были детские проказы
Ей чужды: страшные рассказы
Зимою в темноте ночей
Пленяли больше сердце ей.
Когда же няня собирала
Для Ольги на широкий луг
Всех маленьких ее подруг,
Она в горелки не играла,
Ей скучен был и звонкий смех,
И шум их ветреных утех.
Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звезд исчезает хоровод,
И тихо край земли светлеет,
И, вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день.
Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает,
И доле в праздной тишине,
При отуманенной луне,
Восток ленивый почивает,
В привычный час пробуждена
Вставала при свечах она.
Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли всё;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона и Руссо.
Отец ее был добрый малый,
В прошедшем веке запоздалый;
Но в книгах не видал вреда;
Он, не читая никогда,
Их почитал пустой игрушкой
И не заботился о том,
Какой у дочки тайный том
Дремал до утра под подушкой.
Жена ж его была сама
От Ричардсона без ума.
Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла[30];
Но в старину княжна Алина,
Ее московская кузина,
Твердила часто ей об них.
В то время был еще жених
Ее супруг, но по неволе;
Она вздыхала о другом,
Который сердцем и умом
Ей нравился гораздо боле:
Сей Грандисон был славный франт,
Игрок и гвардии сержант.
Как он, она была одета
Всегда по моде и к лицу;
Но, не спросясь ее совета,
Девицу повезли к венцу.
И, чтоб ее рассеять горе,
Разумный муж уехал вскоре
В свою деревню, где она,
Бог знает кем окружена,
Рвалась и плакала сначала,
С супругом чуть не развелась;
Потом хозяйством занялась,
Привыкла и довольна стала.
Привычка свыше нам дана:
Замена счастию она[31].
Привычка усладила горе,
Не отразимое ничем;
Открытие большое вскоре
Ее утешило совсем:
Она меж делом и досугом
Открыла тайну, как супругом
Самодержавно управлять,
И всё тогда пошло на стать.
Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь —
Всё это мужа не спросясь.
Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных дев,
Звала Полиною Прасковью
И говорила нараспев,
Корсет носила очень узкий,
И русский Н, как N французский,
Произносить умела в нос;
Но скоро всё перевелось;
Корсет, альбом, княжну Алину,
Стишков чувствительных тетрадь
Она забыла; стала звать
Акулькой прежнюю Селину
И обновила наконец
На вате шлафор и чепец.
Но муж любил ее сердечно,
В ее затеи не входил,
Во всем ей веровал беспечно,
А сам в халате ел и пил;
Покойно жизнь его катилась;
Под вечер иногда сходилась
Соседей добрая семья,
Нецеремонные друзья,
И потужить, и позлословить,
И посмеяться кой о чем.
Проходит время; между тем
Прикажут Ольге чай готовить,
Там ужин, там и спать пора,
И гости едут со двора.
Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;
Любили круглые качели,
Подблюдны песни, хоровод;
В день Троицын, когда народ
Зевая слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три;
Им квас как воздух был потребен,
И за столом у них гостям
Носили блюда по чинам.
И так они старели оба.
И отворились наконец
Перед супругом двери гроба,
И новый он приял венец.
Он умер в час перед обедом,
Оплаканный своим соседом,
Детьми и верною женой
Чистосердечней, чем иной.
Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир.
Своим пенатам возвращенный,
Владимир Ленский посетил
Соседа памятник смиренный,
И вздох он пеплу посвятил;
И долго сердцу грустно было.
«Poor Yorick![32] – молвил он уныло, —
Он на руках меня держал.
Как часто в детстве я играл
Его Очаковской медалью!
Он Ольгу прочил за меня,
Он говорил: дождусь ли дня?..»
И, полный искренней печалью,
Владимир тут же начертал
Ему надгробный мадригал.
И там же надписью печальной
Отца и матери, в слезах,
Почтил он прах патриархальный…
Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут…
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!
Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнию, друзья!
Ее ничтожность разумею
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.
И чье-нибудь он сердце тронет;
И, сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!
Прими ж мои благодаренья,
Поклонник мирных аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!
Elle e€tait fille, elle e€tait amoureuse.
Malfila^tre[33]
«Куда? Уж эти мне поэты!»
– Прощай, Онегин, мне пора.
«Я не держу тебя; но где ты
Свои проводишь вечера?»
– У Лариных. – «Вот это чудно.
Помилуй! и тебе не трудно
Там каждый вечер убивать?»
– Нимало. – «Не могу понять.
Отселе вижу, что такое:
Во-первых (слушай, прав ли я?),
Простая, русская семья,
К гостям усердие большое,
Варенье, вечный разговор
Про дождь, про лён, про скотный двор…»
– Я тут еще беды не вижу.
«Да скука, вот беда, мой друг».
– Я модный свет ваш ненавижу;
Милее мне домашний круг,
Где я могу… – «Опять эклога![34]
Да полно, милый, ради Бога.
Ну что ж? ты едешь: очень жаль.
Ах, слушай, Ленский; да нельзя ль
Увидеть мне Филлиду эту,
Предмет и мыслей, и пера,
И слез, и рифм et cetera?..
Представь меня». – «Ты шутишь». – «Нету».
– Я рад. – «Когда же?» – Хоть сейчас
Они с охотой примут нас.