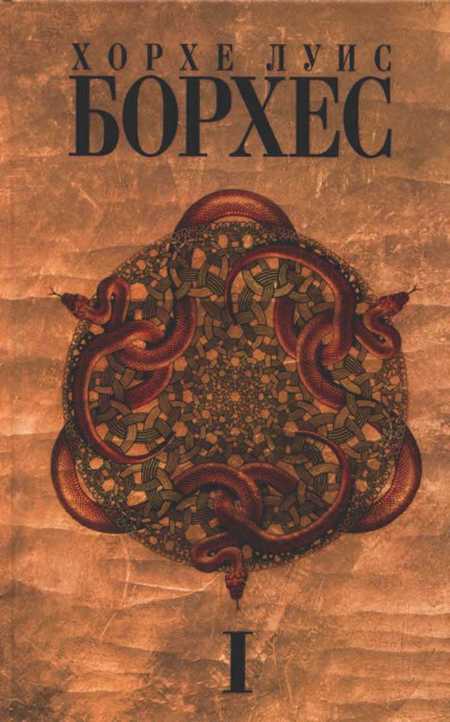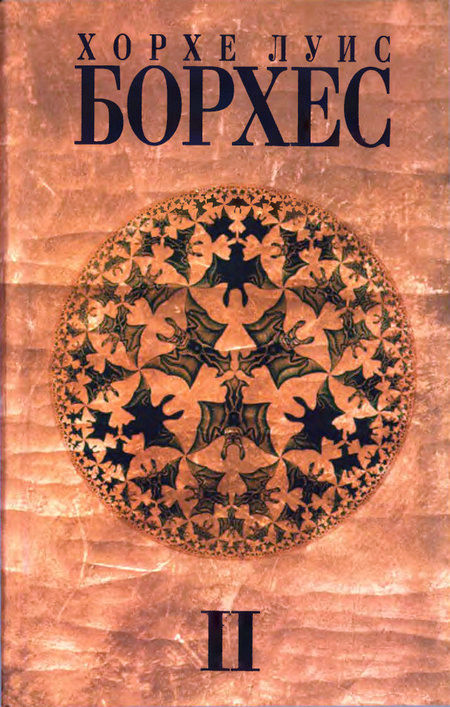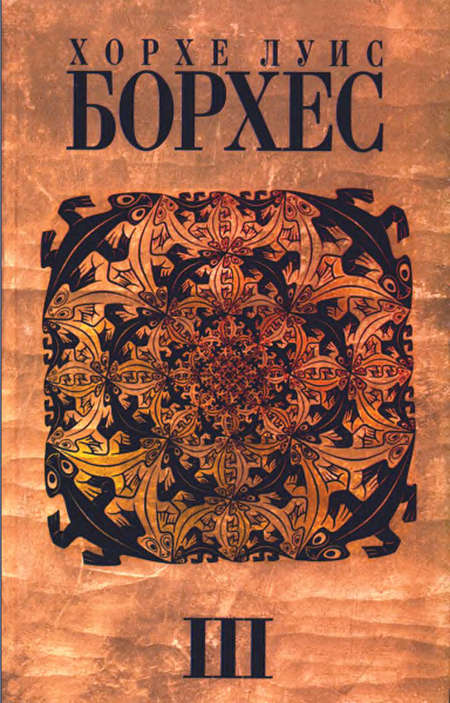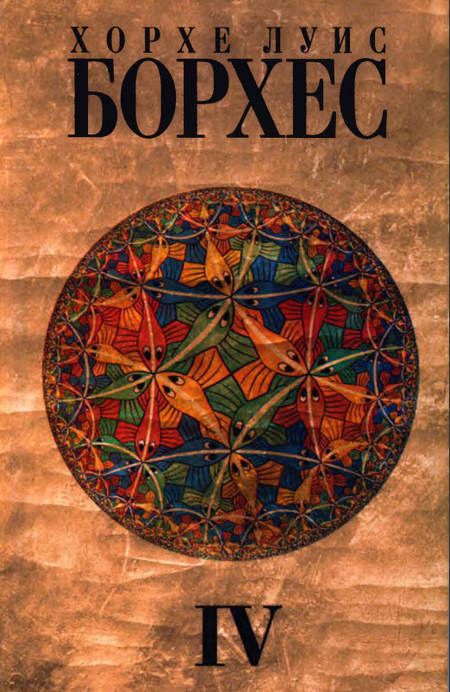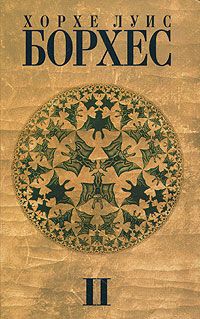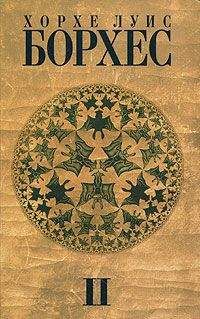Буэнос-Айресом, «больше чем просто городом, целой страной… землей моей надежды» [17]. Борхесу потребовалось соединить здесь реальное с несуществующим, представить «прошлое как будущее» (задача, отмечу, не раз встающая перед героями его новелл). «Вспоминать о Буэнос-Айресе то, что он забыл, — пишет Беатрис Сарло, — Борхесу пришлось в тот момент, когда материальные следы забытого начали уже исчезать» [18]. Поэтическая реальность «старой» окраины воссоздается им с некоторой примесью анахронизма, с легким сдвигом во времени, который исподволь, незаметно для читателя, усиливает ощущение фантастичности происходящего. (Вскоре уроки такого «сдвига» усвоит Хулио Кортасар, чьи рассказы открыл и впервые опубликовал именно Борхес: так описан двувременной и двупространственный Буэнос-Айрес в одной из лучших кортасаровских новелл «Другое небо».)
Сдвиг во времени передан у Борхеса еще и как смещение в пространстве. Его воображение как бы движется навстречу, наперекор маршрутам самих новоприбывших в столичном городе. От центра и от его старых кварталов для чистой публики (потесненные сейчас, Сур и Конститусьон вернутся в написанное Борхесом поздней, в сороковые годы) память ведет его к Альмагро, Сааведра, Пуэнте-Альсина — на периферию, к предместью, окраине, в тот призрачный промежуток, где граница между равниной и первыми домиками стерта. И еще одно. Как бы отделенные этим пространственно-временным сдвигом — фиксируя разрыв между миром и письмом, который может. «биографически» мотивироваться разлукой, сном или воспоминанием, — Борхес и его «внутренний зритель», поэт, рассказчик, смотрят на окружающее глазами прохожего (Вальтер Беньямин, по памяти и воображению осваивающий бодлеровский Париж, сказал бы «фланера»).
Прохожего ведет ненасытная страсть к увенчивающему путь, заветному и невидимому концу, за которым тем не менее опять оказывается новое начало. Сопровождающую его ностальгию питает предощущение неизбежного ухода, разрыва, ведь он здесь — чужой: «Я уже тоскую по минуте, когда затоскую по этой минуте», — напишет Борхес на остановке посреди одного из последних в своей жизни путешествий [19]. А раннюю рецензию на сказки немыслимо отдаленного в пространстве и времени Туркестана закончит словами: «Я для того и льну к этим сказкам: чтобы почувствовать себя чужим собственной жизни. Чтобы от нее оторваться. Чтобы играть в ностальгию по ней».
Борхесовский прохожий «смотрит на перемены анонимным взглядом незнакомца, поскольку город для него — уже не пространство непосредственных жизненных связей, — замечает Беатрис Сарло. — Он теряется в его складках, ища исчезнувшее навсегда или угадывая в физических очертаниях настоящего приметы будущего» [20]. Фантастика — неизбежный модус повествования о такой промежуточной, двуприродной реальности. Объективистские, прямые картины окружающего в жанре ли панорамной хроники бальзаковских кондиций, как и взгляд на мир местного, креольского потомка европейских реалистов — нравоописательного романа из ла-платской жизни, — для Борхеса равно исключены. Национальный роман и стоящий в его центре национальный герой невыносимы для Борхеса пусть самым слабым отголоском идеи национального ячества. Тут стоит напомнить, в какой атмосфере Борхес начинал.
Граница против Центра
Беатрис Сарло резюмирует культурную ситуацию времен борхесовского дебюта в литературе так: «В двадцатые годы авангардное движение в Аргентине разворачивалось вокруг трех проблем — открытого вопроса о национальной принадлежности и культурном наследии в стране, чей демографический состав стремительно и драматично менялся под воздействием тысяч эмигрантов; вокруг необходимой связи с искусством и литературой Запада и, наконец, вокруг разработки новых форм выражения. Нужно было провести четкую грань, отделив себя от литературного прошлого, с одной стороны, и от современной реалистической и социалистической эстетики, с другой» [21].
Но это в том, что касалось литературного авангарда. А у него был и более широкий контекст. Вокруг столетнего юбилея независимой Ла-Платы (1916) и Федеративной Республики Аргентина (1926) в стране вспыхивает форменная националистическая истерия. Монументы отечественного величия вспухают на глазах. Спешно кроятся пышные родословные — персональные и коллективные. В 1917–1921 годах выходит многотомная «История аргентинской литературы» Рикардо Рохаса (Борхес язвил, что объемом она намного превышает свой предмет). Основой представлений о «национальном духе» — и это в стране сплошных переселенцев из разных углов Европы, большинство которых теперь столичные жители! — делают почвеннический миф о вольном пастухе-гаучо. Роман друга борхесовской юности Рикардо Гуиральдеса «Дон Сегундо Сомбра» издается в 1926 году и немедленно возводится в ранг отечественной классики. На ура-патриотические позиции переходит идейный авторитет и законодатель литературных вкусов в тогдашней Аргентине, крупнейший поэт и прозаик Леопольдо Лугонес. Стремительно эволюционирует в сторону фашизма друг борхесовской юности, видный поэт и романист Леопольдо Маречаль (в тридцатые Аргентинское сообщество писателей будет вынуждено его исключить).
Проблема центра и периферии, символы границы и окраины приобретают в этом контексте дополнительный смысл. Любое агрессивное превосходство, любой дух исключительности — и цезаризм метрополии, и национализм провинций — как способ самопонимания, как взгляд на мир равно далеки от Борхеса. О чем он не раз писал в эссе двадцатых годов, а особенно в публицистике тридцатых и более поздних лет, говорил в речи 1951 года «Аргентинский писатель и традиция» (характерно, что она задним числом включена писателем в сборник эссе рубежа 20—30-х годов «Обсуждение»). Что все это значило для Борхеса-писателя, какие имело последствия для его представлений о литературе, его словесной практики?
Сама художественная конструкция бессчетных романов-эпопей популярных в ту пору Мануэля Гальвеса или Уго Васта выглядит в борхесовских глазах неуместной и ходульной. Если для Борхеса-поэта нестерпима жреческая поза в литературе, а всевозможные разновидности художнического волхвования — поза пифии, сказал бы Валери, — вызывают в нем лишь чувство фальши (отсюда его поэтическое молчание с конца двадцатых вплоть до начала сороковых годов), то начинающему, делающему — очень медленно и обдуманно — первые шаги повествователю-Борхесу претит картонный психологизм реалистической новеллистики и всеохватывающие, помпезные панорамы национального эпоса. Борхесовские газетные очерки, объединенные потом в книгу «Всемирная история бесславья», среди прочего, играют на многозначности титульного слова «infamia». Мало того, что это «позор», это еще и «фальшивка», и во вступительной заметке Борхес напрямую это обнажает: «…безответственная игра застенчивого человека, который не решился писать рассказы и забавляется тем, что подделывает и передергивает… чужие истории… Страницы этой книги полны виселиц и пиратов, заголовок оглушает словом бесславье, но за всей сумятицей ничего нет. Это лишь видимость, внешняя сторона образов…» [22] Но вруны и шарлатаны — еще и протагонисты этих хроник, которые скрупулезно собраны из «реалистических» микродеталей, взятых у других авторов, а повествуют об очковтирателях, самозванцах и лжемессиях. Ходульности фотографического бытописательства и стереотипам литературной чувствительности Борхес противопоставляет провокационную экзотику обстановки, газетную плакатность героев, откровенную цитатность письма. Как бы реалистический, на этот раз «собственный» сюжет и гаучистская лексика «Мужчины из Розового кафе» (впрочем, новелла перекроена из более раннего хроникального очерка, вошедшего в «Язык аргентинцев» и к тому же подписанного псевдонимом, а поздней будет еще раз