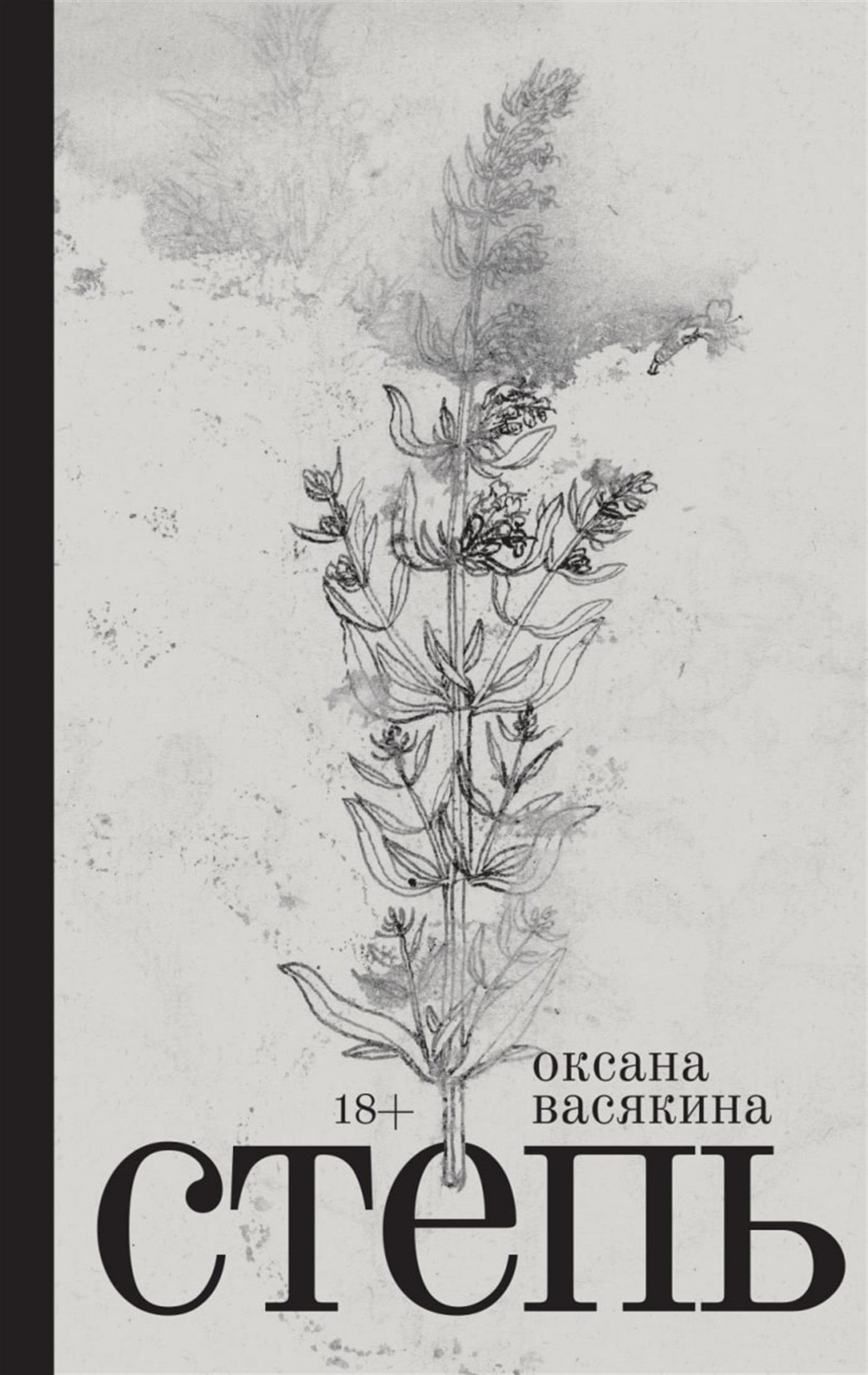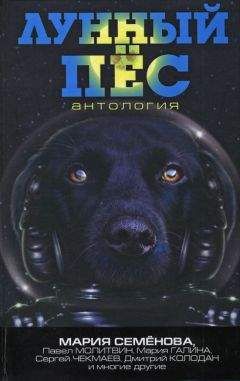исписанная вдоль
детскими корявыми стихами.
Там и наслаждение, и боль.
Мамой приобретена — спасибо маме.
7. Ручка
Гелиевая, синяя, а на
колпачке царапинки и трещинки.
Изолентой перемотана.
Как люблю держать я эту вещь в руке!
Послесловие
Всё сберегу, растеряю навряд.
Каждый предмет по-особому мил.
Знаю: умру — и они подтвердят
людям грядущего то, что я жил.
Твёрдый знак, иль ер,
не вмещался в гробик,
под хны-хны химер,
под ритмичность дроби
барабанной — чик,
отломили. Здравствуй,
моё имя! Ник,
умоляю, мёртствуй.
Закопали и
придавили камнем.
Все его стихи
обзываю «Ранним».
«Алекс Миръ» — гвоздём
и кривым, и ржавым
(это микролом,
это мегажало)
нацарапал я, хоть рука дрожала.
О фонарь, соглядатай встреч,
скольких ты освещал прохожих?
Запах тут, как в местах отхожих,
но охота на землю лечь.
Ты — маяк, проводник к мечте.
Как уйти от смертельной кары?
Под тобой целовались пары,
то есть рядышком, в темноте.
«Дорогая», «прости, любимый» –
все слова принимает высь.
Только вонь, словно дух незримый,
говорит им: «Достали! Брысь!»
О фонарь! Разве смысл есть
в том, чтоб нам освещать дорогу?
Просто я не пойму, ей-богу,
как лучи воедино плесть.
Ибо мысль — это тоже луч,
ну а мозг — небольшая лампа
(если б я убежал от штампа,
стих бы был не настолько жгуч).
Расскажи-ка, стальной гигант,
что тебя временами гложет?
Постоянные драки банд?
Или крики детей, быть может?
О фонарь! У меня озноб.
Потому как в подлунном мире,
чтоб сыграть на бессмертной лире,
нужно рано ложиться…
В гроб.
Бабу Иру, хоть соседка,
видел я довольно редко
и при этом уважал.
Угощала в урожай
нас, детей, она малиной
золотой, альтернативной…
Бабушку потом сожгли
вместе с хатой недолюди.
Похоронные рубли –
их мотив. Нет жутче жути.
Через годы лишь фундамент
и остался — местным память
волновать. А как-то раз
друг Руслан нашёл запас
продовольствия: варенье,
мёд, тушёнка… Без стесненья
Руся (бедность — не порок)
утащил в своё жилище
столько банок, сколько смог.
Прибежало много нищих.
Баба Ира — фронтовичка,
баба Ира — медсестричка,
раненых латала, да.
И исчезла без следа.
Ныне же её участок
о́бжит заново, к несчастью.
Вышел из тюрьмы Чебан,
человек авторитетный,
ладный дом поставил там,
там конкретно.
В брак вступил (жена моложе
лет на двадцать или больше)
сделал сына, слёг, сыграл
в ящик под вороний грай:
«Ка-рра! Ка-рра! Ка-рра! Ка-рра!»
Кара за игнор пожара.
Место помнит дым и треск
шифера, огонь и воду.
Разве нету чистых мест
в городке? Хватает вроде.
Всё изложенное — было.
Есть и бабушки могила,
и могила Чебана.
Постоянно голодна
смерть. Насытится едва ли.
Только б люди умирали.
И ещё добавлю с болью,
завершив поэмку эту:
Руся, что отрыл подполье,
канул и в Хилок, и в Лету.
Кутья –
каша из риса с изюмом.
Изюм –
мумии виноградин,
ягоды, лишённые душ.
Душа –
содержание, наполнение.
Говорят, она никогда не умирает.
Умирать –
знать, что скоро сварят кутью,
а ты и не попробуешь.
Я, между прочим,
люблю это блюдо.
В обычный день его не готовят –
исключительно по тризнам.
Люблю всё исключительное.
Удивляюсь, расписав
тела нашего состав:
сера, натрий, молибден,
алюминий, углерод,
калий, фосфор, цинк, селен,
магний, олово, азот,
фтор, железо, йод, лантан,
торий, золото, рубидий,
медь, бериллий, хлор, уран…
Где живое, извините?
вот и смертью убило цветкова
он отныне в бат-яме не гость
и мне совестно честное слово
то что я не подал ему трость
это было в иркутске на фесте
он напротив сидел как король
с мутнооким кенжеевым вместе
и читал про тумана юдоль
из усталой руки выпал жезл
я не сдвинулся с места был горд
даром что его отзывом грезил
к тому времени уж третий год
жив ещё в моей памяти лирик
а забросит в святые края
на надгробие лирика финик
положу в извинение я
Бог курит, пепел на Хилок
роняя равнодушно.
Я — не начало, не итог,
как Он. Да и не нужно…
Я просто здесь, в такой дыре,
стою, любуюсь пеплом,
что Бог роняет на заре –
весенней, жидкой, блеклой.
Ошую — магазин «Садко»,
путь в центр — одесную.
До невозможности легко.
Я есмь. Я существую.
Вот перекати-город
(пакет) по шву распорот,
летит, летит, шурша.
Ничейная душа.
Он более не форма
под шмотки, виды корма,
он — содержанье, суть.
И мы когда-нибудь…
С. Ф.
Живи у озера, мой друг,
живи вне времени –
чтоб тишина, покой вокруг…
Все этим бредим мы.
Мы — выходцы из деревень,
глуши, провинции –
забыли, что такое день
в покое в принципе.
Мой разговор с небожителем
«А жизнь была?» — «Была, была».
«А смерть?» — «Она ещё наступит».
«А что сейчас?» — «Сейчас дела».
«Дела?» — «Воды толченье в ступе».
Посмертие потом ещё.
Я от бессмертия отплюнусь.
Лишь детство, детство горячо,
тепла разнузданная юность.
А молодость прохладой веет –
всяк чувствует, что он стареет.
С утра до вечера набор
кириллицы на ноутбуке.
И наложить давно бы руки
от экзистенциальной скуки…
Но кто же за меня курсор
водить продолжит по экрану
и тыкать буквы, если вдруг
самоубийцею я стану?
Да разве только ноутбук –
родителей, друзей, Татьяну
оставить в мире не могу.
«Потерпишь, Александр?» — «Угу».
На главный для землян вопрос,
мой собеседник, дай ответ:
«Когда иссякнет этот свет,
тот загорится или нет?»
Молчит, нечёток и белёс.
Блок сформулировал покруче,
пусть ради красного словца:
«Над нами — сумрак неминучий
Иль ясность Божьего лица?»
Молчит.
Вечная мерзлота –
нет её непокорней.
Вечная мерзлота
не пропускает корни.
Вечная