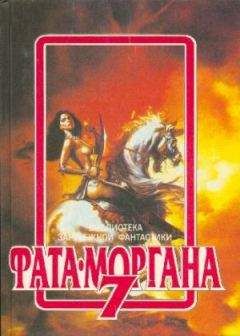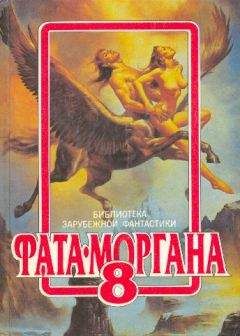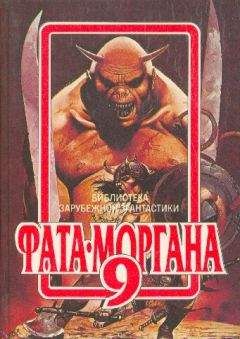я взор не отрываю от огня,
куда забросил книгу под поленья.
Там, в пламени, мелькают, что ни миг,
дракон вослед за водяным уродом
и черной головой - и мой двойник
проскальзывает под каминным сводом.
Нет, истину не опалить огнем,
она хранится, вечно наготове,
там, в сердце очага, - дымится в нем
и тлеет, чтобы возродиться в Слове,
чтоб с ним из сердца моего исчез
тревожный строй чудовищ и чудес.
МОЛИТВА О КОСТЯХ
Где ветер северный шуршит чертополохом,
все, что живет, в солончаках переморив,
вдоль ржавых проволок скользя с тяжелым вздохом,
где враны каркают и гладен даже гриф,
дозволь мне, Господи, хотя бы отдых краткий.
Мой сын, я знаю, мертв: пусть шепчут мне тайком,
что он матросом стал, что жив, что все в порядке,
быть может, у больших господ истопником
работает, что он корчмарь и славный малый...
Не больно верится! Уж вовсе ерунда,
что он удачливый контрабандист... Пожалуй,
он все-таки погиб, но, Господи, тогда
мне место укажи, где в грунт, от зноя жесткий,
он брошен и спасен от всех иных смертей,
и я могла бы знать, что два мешка известки
насыпаны давно поверх его костей.
Я так измаялась бессонницей полночной:
в церковной метрике, как рассказали мне,
его рожденья час не обозначен точно,
и гороскоп его понятен не вполне,
и не взойдет его звезда из дальней дали,
алмазом в небе не сумеет просверкнуть
всем тем, кто ныне ждет в Оранжевой, в Трансваале,
к борьбе обещанный указывая путь.
Нет, присчитать его давно пора к убитым,
поскольку, Смертью через всю страну гоним,
он слег в конце концов, измотанный плевритом,
на ферме, - и туда Она пришла за ним.
Он, брошенный в барак, потом в вагон, под стражей,
сквозь бред горячечный - штыков примкнутых строй
мог видеть в те часы, покуда лекарь вражий
подлечивал его для гибели второй.
Допрос подделанный, и вслед за ним - расплата
за жизнь, за Храфф-Рейнет и за свободу... Иль
не подлость посчитать преступником солдата?
Свобода Храфф-Рейнета... Иезекииль!
Прости сравнение, так сытая собака
несглоданную кость зароет про запас
в укромной рощице и прочь уйдет, однако
догрызть ее приходит в следующий раз.
А в полночь пятеро, такие же солдаты,
шли тело разыскать под известью, в холсте,
вдоль берега реки, взяв лампы и лопаты,
под розмарин, туда - затем, чтоб в темноте
отрыть и вновь зарыть... Во громах с небосвода
в ту ночь Ты, Господи, в наш мир, объятый тьмой
сошел поспорить со врагом людского рода
кому достанется из вас ребенок мой.
Он умер в третий раз, но кто умрет трикраты,
тот будет вечно жив: теперь и навсегда
он там, где грузчики, он там, где акробаты,
то в шахте, то в тюрьме, то в зной, то в холода
живет и не сгниет ни на каком погосте!
Могильный розмарин - позор моей земли...
Благослови, Господь, все тлеющие кости.
Я поняла за те полвека, что прошли:
весь мой родимый край - огромная могила,
над коей ветер шелестит со всех сторон,
и даже родники, журча, твердят уныло
о голоде собак, и грифов, и ворон,
народу моему, бредущему неторным
путем, позволь, Господь, навеки стать Твоим
зеркальным образом, и в белом, в желтом, в черном
в любом из нас Твой огнь да будет негасим.
ХРОНИКА КРИСТИНЫ
(Цикл)
БАРЫШНЯ
Восторжена, свежа и молода
была Кристина той порой, когда
служить явилась в миссию в Липкейле,
и лошадь не застаивалась в стойле,
наездницей пускаема в карьер
в холмы летела; но миссионер,
угрюмый Гуннар, и его супруга
настаивали, что в часы досуга
Кристина быть обязана иной,
не забывать, кто белый, кто цветной,
и заниматься чем велят. В ограде
ей приказали жить, к ее досаде,
чтоб распорядок был предельно прост:
орган, больница, Библия и пост.
Пришлось Кристине изменить привычкам:
уже ни ласточкам, ни певчим птичкам
вниманья не дарить, - лишь в поздний час
ей было слышно, как безбожный пляс
за низкорослой рощицей папайи
ведут новокрещенцы-шалопаи.
Однако Бог, когда черед настал,
иную участь ей предначертал.
ПРИЧАСТИЕ
Обедня началась уже давно;
у алтаря облатки и вино
делил угрюмый Гуннар, - но нежданно,
от духоты, быть может, у органа
она сомлела посреди игры...
К ней подошли три черные сестры
и вынесли в волнении великом
на воздух захлебнувшуюся криком.
Не скоро, но поведала она:
- Я выше гор была вознесена
над грозной бездною, над преисподней,
и речью там застигнута Господней:
- Готовься с новой встретиться судьбой:
был только что Липкейл перед тобой,
но ныне покажу тебе, Кристина,
сколь мука разнородных тел едина.
Наперекор законам и годам,
пять раз тебе иную плоть я дам,
чужую боль ты осознаешь въяве.
- Я возражать, о Господи, не вправе.
- Тогда тебе надежду подаю:
чужая скорбь да умягчит твою.
ДИКАЯ СОБАКА
Теперь Кристина, к горькому стыду,
умела думать только про еду,
скулила долго, жалобно, несыто,
и плеткою бывала часто бита,
потом, в крови, она к траве, к воде
плелась, гонимая инстинктом, где
могла попить и подлечиться тоже.
Ее кормил хозяин чернокожий,
однако цепь надоедает псу:
Кристина убежала жить в лесу,
свободой наслаждаться тихомолком.
Когда луна восходит над поселком
и тихо проплывает над листвой,
зулусы часто слышат долгий вой:
в чащобе, в приступе голодной муки,
четвероногий, нет, четверорукий,
зверь красноглазый, в сваляной шерсти,
канавами решается ползти,
к жилью влекомый запахом съестного,
но скоро в чащу уползает снова,
чтоб до норы, от страшных плеток прочь,
в сосцах отвисших брюхо доволочь.
ЗУЛУССКАЯ ДЕВУШКА
Подошвы пылью ржавой замарав,
бежит она среди созревших трав;
и волосы, как проволока, жестки
ее, вовек не знавшие расчески,
а жаром солнца грудь и рамена
закалены, как бронза, дочерна.
Термитники, холмы, - и год за годом
в селеньях мор вослед за недородом,
и вот она однажды забрела
в дом к бедному, что, бросивши дела,
хлестал семь дней в неделю виски, чтобы
уврачеваться от тоски и злобы.
Там, голодна почти до забытья,
она спросила хлеба и питья...
Цвели цветы колючие... И звонко
она пророчила в лицо подонка...
Полиция не дремлет - посему
Кристина мигом брошена в тюрьму;
потом - уходит в горы; хворой, слабой,
то за змеей охотясь, то за жабой,
бессильно шепчет: - Господи благой,
ужели пищи не найду другой?
КАМЕННЫЙ ХОЛМ
Себя в исконном теле ощутив,
она в душе услышала призыв:
иди и проповедуй с должным рвеньем
в пустыне горной скалам и каменьям.
Немотствовали камни, - но привлек
ее вниманье злобный хохоток,
шуршавший за спиной, не затихая:
здесь община, тупая и глухая,
над ней глумилась гнусно меж собой.
Свершая предрешенное судьбой,
Кристина медленно вобрать сумела
конечности веснушчатые в тело
свое, подобна ставши до конца
как бы цыпленку в скорлупе яйца,
окуклилась, повисла в мертвой точке:
зародыш в изначальной оболочке.
И прорекла: "Не прячьте же зениц,
внемлите". И десятки странных лиц,
овально-напряженных, скально-грубых,
то одноглазых, то заячьегубых,
на черепашьих лапках поползли
внять о начале мира и земли.
РОЩА ПАПАЙИ
Средь зарослей папайи, при луне,
смежа глаза в подобном смерти сне,
воздевши руки, замерла Кристина...
К утру ее стопы всосала глина:
земля была достаточно сыра,
чтоб напитать их, - ибо два бедра
и стан ее в немыслимые сроки
срослись и обратились в ствол высокий,
напоенные влагой корневой,
нагие руки обросли листвой,
и в два плода преобразились пясти.
Они зашелестели: "Мы во власти
одной: самцы и самки, все в миру
вовлечены в единую игру,
никто Зеленым Ветром не унижен,
ни танца не лишен, ни обездвижен..."
Но, приготовясь древом быть навек,
вдруг видит: к ней подходит дровосек,
под топором за веной рвется вена,
и - женщина рождается мгновенно...
Ей мнится ложью цепь метаморфоз,
но голубь возлетел с ее волос.
АРБУЗ
Видение сменилось, - в должный срок
ей переполнил тело рдяный сок;
от солнца - жар, от родника - прохлада,
сок забродил, как сусло винограда,
разбухло тело, в нем на нет сошла
и тонкость рук, и белизна чела,
и, облекаясь шаровидной формой,
печалилась она: "За что позор мой?
В великий голод высеяно зло,
а зла зерно, когда оно взошло,
на пользу служит не одной ли злобе?"