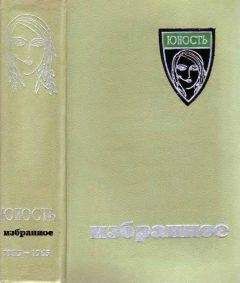Щепки полетели из-под его ножа в разные стороны.
«Со мной, что ли, он спорит? — подумал я. — Вряд ли. Должно быть, это старая его боль».
— Когда же тебя в начальники звали, Адриян?
— В тридцатом годе, — хмуро ответил он.
Чурбашка под его ножом превращалась в станок рубанка.
— В колхозе-то состоишь или единоличник?
— Состою. Пособляю им по плотницкой да по столярной части.
— А семья, Адриян, у тебя есть? — осторожно спросил я.
— Один я, — сказал он. — Почитай два года уж как овдовел, а сынок в Донбассе мастером на шахте служит. Да ты о себе-то расскажи, Пал Петров, как ты-то? Робята есть у тебя, ай времени не было завести?
— Дочка, — сказал я. — И внуки уже есть. Мальчик и девочка.
— А чем она, твоя дочка, занимается? Бабы в городах ныне ученые. Может, физик она у тебя ай химик?
— Она артистка.
— Артистка?
— Танцорка она у меня.
— Небось, в Большом театре?
Настала моя очередь замяться.
— Да, нет, понимаешь, Адриян, специальность у нее оригинальная. Она танцует, но только на коньках, на льду, понимаешь…
— Фигурное катание, что ли? — спросил Дикой.
— Ну да, — обрадовался я, — вот это самое. И дочка и зять, вместе они, парное катание… Сначала чемпионами были, а теперь в ансамбле.
— Хорошо! — сказал Дикой. — В кино я видел. Фантазия! Ну, а ты-то сам как жизнь прожил?
— Я? Эх, Адриян, долго рассказывать.
— Слух у нас был, что ты в тюрьме сидел. Это, небось, в тридцать седьмом тебя упекли, когда партийную кадру брали?
— Да, Адриян, в тридцать седьмом. В общем, жизнь я прожил нелегкую, но другой не хочу.
Опять мы замолчали. Закат уже поднимался над ветлами и осокорями.
Скрипели колодезные журавли. Прошли раздутые, усталые от солнца коровы.
— Да-а, — протянул Дикой, — а я вот и в тюрьме не сидел…
Я тут вздрогнул, представив себя на минуту на его месте. Если бы я не ушел из села с винтовкой, если бы не валялся я в сыпняке, если бы не кричал я с трибун, не ездил бы в «форде», не сменил бы трех жен, если бы не лупили меня следователи в НКВД, если бы не замерзал я на лесоповале, если бы все свои шестьдесят четыре года сидел бы я вот вечерами и созерцал движение облаков, редких прохожих, домашнего скота!.. Если бы жизнь моя посвящена была не великой идее, а лишь такому вот созерцанию! Нет уж, увольте! Конечно, каждому свое, а мне — мое, мне — моя жизнь, вся в огнях.
— Да что мы, Пал Петров, все на воле сидим, — сказал Дикой, — зайдем в избу.
И мы, одинаково с ним крякнув, разогнули затекшие спины. В избе его красный квадрат заката дрожал на грязной, запущенной стене. Прямо в горнице стояла бочка, откуда Дикой зачерпнул ковшом воды. Пахло мышами, пустотой, мерзостью запустения. Этого я и ждал.
Лишь стол удивил меня. Он был завален какими-то брошюрами, катушками проволоки, изоляторами, инструментом, на нем стоял огромный ящик, сколоченный из тонких досок, с какими-то прорезями, глазками и со шкалой радиоприемника. Это и был радиоприемник, как я понял.
— Кто это тебе радио смастерил? — спросил я.
— Да я сам собрал. Я этим делом, Пал Петров, оченно увлекаюсь.
Дикой пошарил где-то рукой, щелкнул рычажок, ящик осветился изнутри и сразу загудел.
— Чего желаешь послухать, Москву ай Париж?
— Что же, он и Париж берет?
— Берет чисто, и Лондон берет, Би-би-си, а то один раз, знаешь, что я поймал? Страшно сказать, Гонолулу!
— Будет тебе, Адриян!
Он повел какой-то рычажок, и грязная, мрачная, может быть, даже страшная его изба наполнилась звуками современного мира. Я почувствовал какую-то удивительную мощь в этом уродливом приемнике.
«Все-таки огромный, должно быть, талант был у человека, — подумал я. — Ведь малограмотный мужик, а собрал такую штуку. Как жалко, что все это так пропало, без толку!»
Загрохотал черемушкинский наш проклятый джаз, и я попросил Дикого выключить приемник.
— Не угощаю тебя, Пал Петров, — сказал Дикой, — харчи у меня неприятные. Иной раз самому противно. Баба померла, жалко.
— Я тебе детали пришлю из Москвы, какие хочешь, — сказал я.
Он даже замычал от радости.
— Вот за это спасибо, Павлуша, — сказал он, — благодарствую.
Впервые он назвал меня Павлушей.
— Я тогда тебе напишу, какие лампы мне нужны и что еще. А то ведь все в обломках приходилось ковыряться.
— Скажи, Адриян, — спросил я его, — а тебе не страшно тут одному спать в этой избе?
Какая-то удивительная печаль охватила меня и жалость к этому человеку, боль за него. Вот он лежит один в темноте долгие ночи, и даже вспомнить ему нечего.
— Бывает страшно иногда, когда о кончине думаю, — легко сказал он, все еще, видимо, радуясь моему обещанию, — но это редко, Павлуша.
— В бога веруешь? — спросил я.
— В бога не в бога, а в высший дух верую. В тонкое вещество.
— Как же это так получается, Адрияша? Собираешь ты такие сложные аппараты, а веришь в разную чепуху.
— Так уж, верую, — уклончиво произнес он, встал и зажег свою маленькую, тусклую, засиженную мухами лампочку.
— Скажи, Адриян, вот жизнь наша уже на закате, доволен ты своей жизнью?
Он походил, потоптался, вздохнул. Я наблюдал за ним.
— У меня жизнь с интересом, Пал Петров! — сказал он вдруг дрожащим от волнения голосом.
— Радио, что ли? — спросил я.
— Да, радио и еще одна штука.
Руки даже у него тряслись: так он волновался.
— Что же это за штука?
— Пойдем, — сказал он решительно, — покажу. Тебе первому покажу.
Мы вышли из горницы, прошли через хлев, где стояла одинокая его скотина, старая дебелая коза, вышли во внутренний дворик, когда-то, должно быть, кишевший гусями и утками, а сейчас пустой, и остановились перед дверью сарая.
Дикой долго возился с ключами, снимая замки. Наконец он открыл двери. За ними было темно и только слышалось какое-то слабое ритмичное щелканье. Дикой пошарил рукой, включил свет. Он сперва ослепил меня, а потом я увидел…
Я увидел ту хитрую машину, которую когда-то мы разломали в баньке. Конструкция была все та же в принципе, но только более сложная, более величественная. Машина была в движении, вращались колеса, большие и малые, бесшумно двигались спицы-рычаги, тихо скользили по блокам ременные передачи, и только слабо пощелкивала маленькая дощечка, маленькая дощечка, маленькая дощечка…
— Помнишь? — шепотом спросил Дикой.
— Помню, — тоже шепотом ответил я.
Дощечка щелкала, словно отстукивая годы нашей жизни во все ее пределы, а также за пределами, вперед и назад, и неизвестно уже, куда катили эти бесшумные колеса…
Мне стало не по себе.
— Забавная штука, — сказал я насмешливым голосом, чтобы взбодриться. — Для чего все-таки она? А, Дикой?
Я впервые назвал его Диким.
— Просто, Павлуша, для движения, — снова шепотом ответил он, не отрывая взгляда от колес.
— Когда же ты ее пустил? — опять же насмешливо спросил я.
— Когда пустил? Не знаю, не помню… Давно, очень давно. Вот видишь, не останавливается.
— Что же это: вечный двигатель, что ли?
Он повернулся ко мне, и глаза его безумно сверкнули уже не под электричеством, а под светом ранней луны.
— Кажись, да, — прошептал он с болезненной улыбкой. — А может быть, и нет. Так что… поглядим…
10
В Рязани едят грибы с глазами.
Их едят, а они глядят.
Мансур — бунтующая целина
Интернат стоял над разлившейся по весне речкой Чкалдамой.
Река удивила нас внезапным голубым сверканием. Перед этим была только степь, только терпкий запах земли, только жидкий прошлогодний ковыль, только горечь полыни, только блеклое, засохшее оттого, что давно не было дождей, небо — и вдруг эта река, а над нею белый, приветливый, словно бы улыбающийся дом в степи!
Директор интерната Маканов уже ждал нас. С ходу, едва поздоровавшись, Маканов развернул перед нами величественную картину дел, совершенных во вверенном ему целинном интернате. Он засыпал нас цифрами, рассказывал о кукурузе, выращиваемой его питомцами, о птичнике и клубе умелых рук. Он делал это добросовестно, как на отчете.
А дети спали. Был «мертвый час». Мы уважали дела, творимые в интернате, но нам стало вдруг очень скучно… В сущности, нас интересовали дети.
Когда Маканов закончил свою сводку, мы пошли по хозяйствам. Черно, густо блестела на солнце вспаханная земля, и когда мы посмотрели на нее, то поняли, почему Маканов с таким упоением произносил цифры.