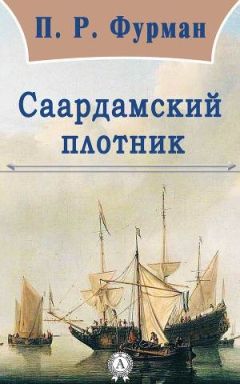Моим старым штанам[136]
Гудбай, штаны! Хоть лучше вас
Не знал одеж мой тощий таз,
Расстанемтесь! Стезя терниста
У барда и у романиста,
Ведь им привычен снос вещей,—
Хоть ближний рек: «Новей — прочней!»
О вы, в кого ногами врос,
Не пропустить сквозь вас мороз
Я тщусь, штукуя все протирки,
Латая рвань, мережа дырки.
Так старикашки — стыд и срам! —
Пилюлятся по докторам,
Чтоб досиять годок-другой
Физиономией тугой,
Покуда смерть в конце концов
Не обезвредит хитрецов.
Хоть изначально вы — сукно,
И гузно в вас утеплено
Слоями штопок и заплат
В снега и в дождь, в туман и в град,
Но в старости за все раденье
Узнайте с чердака паденье!
Впервой надев, я вас любил,
Как в злате-серебре ходил,
Но пусть не ищут пониманья
Дрянь-обшлага и рвань карманья;
Известно — нам, поэтам — ценз
С трудом дарует каждый пенс,
Поэтому для нас медяк,
Потертый даже, — не пустяк!
Но оглянись по сторонам —
Паршиво всем, не только нам;
Кого же мир боготворит?
Кто в долг дает и кто поит;
Нам друг до гроба — кто из щедрых,
А поистратится — и недруг!
Но тот, кто пылок сердцем, он
Всегда за друга огорчен,
Как я за вас — ведь столько раз
Я рифмовал, напялив вас,
Поскольку наплевала Муза
На все, что смертному обуза:
На скуку, грусть, печаль, хандру,—
Ей легких строф подай игру!
Друг или враг, сестра иль брат —
Не пощадит — сразит подряд.
Забудут ли штанины ваши
Счастливый танец мой вкруг чаши?
Несочетаем был с бедой
Мой пылкий облик молодой.
Увы, пропала пылкость прытко,
Как в снег декабрьский маргаритка.
Будь Вошекол не сын безделья,
Ну не носил бы вас везде ль я?
Будь вечны вы — огонь и воду
Прошли бы мы, плюя на моду!
Увы! Vicissitudo (бренность)
Любой товар состарит в древность,
А посему на вечность плюньте,
Вы — тлен! Sic transit gloria mundi!
Теперь ступайте к некой даме,
Взалкавшей помыкать мужьями,
И предложитесь — вдруг нужны
Ей для престижа вы, штаны;
Пускай не очень вы опрятны,
Обязанности все ж приятны,
Поскольку скроете от всех
Поболе вашего огрех.
А если в дни удачи бард,
Рифмуя, загребет мильярд
И задаваться станет он,
Окружевлен и оживлен,
Как призрак, встаньте на виду —
Напомните ему нужду —
Не золото, мол, не блести,
Мол, меру научись блюсти.
Так царь Филипп, что лучших правил
Был, и у македонян правил,
Страшась объесться сластью власти
В ее руководящей части,
С утра юнца к себе водил,
Чтоб человека в нем будил.
Не то бы — оплошал Филипп,
В бесчеловечность то бишь влип.
Русские читатели впервые узнали Бернса как автора «Субботнего вечера поселянина» в начале XIX века.
С легкой руки первых переводчиков Бернс был представлен певцом идиллической крестьянской жизни, поэтом-пахарем, играющим на досуге «на своей пастушьей свирельке».
Но тогда же в редакционной статье «Московского телеграфа» переводчику поэту Козлову напомнили, что Бернс «был пламенным певцом Шотландии, сгоревшим в огне страстей, а не простым поселянином, очень мило рассказывавщим о своем сельском быте».
К середине XIX века Бернса уже знали более широко.
В 1847 году о нем писал человек, чья поэтическая судьба больше всего напоминает судьбу Бернса: мы говорим о Тарасе Шевченко.
Он называет Бернса «поэтом народным и великим». Он говорит, что надо жить с народом, жить его жизнью, «самому стать человеком», чтобы этих людей описывать.
Он понял в Бернсе главное — его близость к народу, его понятность.
Еще позже, в 1856 году, Бернса стал переводить Михаил Ларионович Михайлов. Н. А. Некрасов прочел переводы Михайлова, — и хотя он через год опубликовал эти переводы в своем журнале, но они, как видно, казались ему не вполне отражающими гений Бернса. О нем он знал со слов Тургенева, которому и написал:
«…И вот еще к тебе просьба: у меня явилось какое-то болезненное желание познакомиться хоть немного с Бернсом, ты когда-то им занимался, даже хотел писать о нем: вероятно, тебе будет нетрудно перевесть для меня одну или две пьесы (прозой, по своему выбору). Приложи и размер подлинника, означив его каким-нибудь русским стихом (ибо я далее ямба в размерах ничего не понимаю), — я, может быть, попробую переложить в стихи. Пожалуйста, потешь меня, хоть страничку пришли на первый раз…»
Тургенев отвечает через десять дней:
«Я уверен наперед, что ты придешь в восторг от Бернса и с наслаждением будешь переводить его. Я тебе обещаю сделать отличный выбор и метр приложить: Бернс — это чистый родник поэзии».
«Тургенев, спасибо ему, взялся мне переводить из Бернса», — пишет Некрасов с радостью через несколько дней.
Но эти планы остались невыполненными. Бернсу пришлось ждать своего переводчика почти сто лет. Таким переводчиком для него стал С. Маршак. В 1941 году появляется книга «Английские баллады и песни» С. Маршака с большим циклом переводов из Бернса. С тех пор выходило еще девять изданий переводов С. Маршака из Р. Бернса, все более полных. Отмеченные высоким мастерством и большими поэтическими достоинствами, они приобрели заслуженную популярность. Переводы Р. Бернса, выполненные С. Маршаком, являются одним из образцов переводческого искусства.
Слово «баллада» происходит от франко-норманнского слова «баллатис», до XV–XVI веков этот жанр народного творчества, особенно во Франции и в Италии, имел строгую форму, с определенными повторами и припевами. В XV веке французский поэт Франсуа Вийон достиг высокого мастерства в своих балладах, ставших образцом для многих поэтов.
Однако английские и особенно шотландские баллады несколько отошли от канонической формы и постепенно превратились в драматизированные, остросюжетные повествования, положенные на музыку. Ритмы этих баллад очень разнообразны, их лексическая ткань пронизана традиционными эпитетами, сходными с «неподвижными» эпитетами русского фольклора («добрый молодец», «красная девица»). В шотландских балладах не только повторяются многие «бродячие сюжеты», отраженные в фольклоре всех времен и народов, но в них особенно часто встречается пересказ реальных исторических событий — доблестных подвигов народных героев, боровшихся за независимость Шотландии. Понятно, почему интерес к этому поэтическому жанру особенно возрос к началу XVIII века, когда, как бы в ответ на политическое поражение и потерю независимости, в этой маленькой стране начался бурный расцвет науки, искусства, поэзии. Именно в XVIII веке стали выходить первые собрания старинных песен и баллад, любовно и тщательно отобранных уже не просто любителями, но знатоками-фольклористами, посвятившими себя этому нелегкому делу.
Одним из самых известных собирателей был поэт Аллан Рамзей (1684–1758). Он родился в Англии, но в ранней юности, оставшись сиротой, переехал в Эдинбург — на родину своего отца-шотландца. Рамзей сам писал стихи и за свою пастораль «Милый пастушок» заслужил прозвище «шотландского Горация». В его книжной лавке был настоящий клуб любителей шотландской поэзии; как и Роберт Бернс, Рамзей знал, кроме английского, и «шотландский диалект» настолько хорошо, что многие его произведения вошли в сокровищницу шотландской поэзии. Но особенно прославился Рамзей как собиратель старинных баллад и песен. Он находил их в рукописных списках частных коллекций, в так называемых «бродшитс» — старых лубках, и записывал, как и позднейшие собиратели, нигде не опубликованные баллады с голоса старых народных певцов и «сказителей». В 1724 году вышло собрание «Для гостиной» (буквально: «для чайного стола»). В 1765 году вышло обширное собрание епископа Перси «Relics of Ancient English Poetry», включившее много шотландских баллад.
В 1769 году вышло новое собрание Дэвида Херда. Если Рамзей, «дабы не оскорблять слух прекрасных исполнительниц», как он писал в предисловии к своему собранию, часто приукрашивал и сглаживал народный язык баллад, то Дэвид Херд, собравший огромную коллекцию рукописей и лубков, старался не отступать от подлинного их текста. До сих пор собрание Херда служит основой для многих антологий. В нем даны самые популярные варианты, прочно установившиеся к началу XVII века.
Огромный вклад в собирание песен и баллад вложил и великий народный поэт Роберт Бернс. В Эдинбурге он познакомился с Хердом, с музыковедами и фольклористами Джонсоном, Томпсоном, Кларком и много лет бескорыстно сотрудничал в таких изданиях, как «Музыкальный музей» Джонсона и «Собрание баллад» Томпсона.