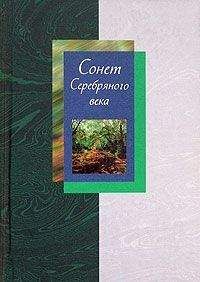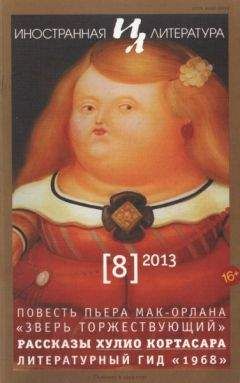Ознакомительная версия.
9
В садах мечты я выстроил чертог...
Ведут к нему воздушные ступени,
Хрустальный свод прозрачен и высок,
Везде цветы, цветы и блеск весенний.
В чертог любви и чистых наслаждений
Я ухожу от скорби и тревог И вижу сны...
Я в них всесильный гений,
Восторженный и радостный, как бог.
Когда же день бросает алчный зов,—
Мои мечты – испуганные птицы
Умчатся вдаль... и снова, бледнолицый,
Блуждаю я меж стонущих рабов.
И жизнь моя тоскливее темницы,
Не знающей ни солнца, ни цветов.
Струится зной по дремлющим волнам,
И медленно проходит без возврата
Глубокий день. Горит пожар заката,
И алый свет скользит по облакам.
Равнина вод молчанием объята.
И облака спешат, как в дальний храм,
К пурпурной мгле, в пустыню небоската,
И, замерев, стоят недвижно там.
Корабль устал. Качаясь, тихо дремлет.
Мертвеет зыбь, и виснут паруса.
И я один в слепые небеса
Гляжу с тоской... Мой дух затишью внемлет
И жаждет бурь. Закатный меркнет свет.
Уж ночь близка. Уж поздно. Бури нет...
Медлительно сходились туч ряды,
Бросая в тьму гудящие зарницы,
И прыгали, как яростные львицы,
Соленых волн вспененные гряды.
Корабль стонал в предчувствии беды...
Но ликовал я, смелый, бледнолицый.
Я пел. И крик морской полночной птицы
Мне отвечал из неба и воды.
А на заре настала тишина.
Лениво нас баюкала волна.
Но день пылал. И, бурей утомленный,
Благословлял я солнечный восход
И синеву золотопенных вод,
И край мечты, безвестный, отдаленный.
Полночь. У моря стою на скале.
Ветер прохладный и влажно-соленый
Трепетно обнял меня, как влюбленный,
Пряди волос разметал на челе.
Шумно разбилась на камни волна —
Брызнула пеной в лицо мне обильно...
О, как вздымается грудь моя сильно,
В этом раздолье предбурного сна!
Я одинок и свободен. Стою
Полный желаний и думы широкой.
Море рокочет мне песню свою...
В гавани темной, затихшей, далекой
Красное пламя на мачте высокой
В черную полночь вонзает струю.
Восстали варвары на исступленный Рим.
Безумный цезарь пьян средь ужаса и стона,
Рабы-сенаторы трепещут перед ним,
И кровь народная дошла к ступеням трона.
Продажный дух льстецов бессильно-недвижим
Позор и ложь царят под сводом Пантеона.
О, родина богов! – твое величье – дым...
И бойся грозного дыхания циклона.
Спеши! Из пьяных урн кровавый сок допей!
Уж Варвары идут от солнечной равнины
С душою мощною, как веянье степей.
Свободный, новый храм воздвигнут исполины
И сокрушат они гниющие руины
Разврата, казней и цепей.
Кровавый ураган затих над мертвой нивой.
Холодная, как сталь, над ней синеет мгла.
И ворон чертит круг зловеще-прихотливый,
И страшен взмах его тяжелого крыла.
Безмолвие и смерть. Толпою молчаливой,
Сплетенные борьбой, разбросаны тела...
Но вот встает из мглы великий Всадник
Зла На призрачном коне, в осанке горделивой.
Свинцовый, тяжкий взор вперяет в землю он.
Ступает черный конь по трупам искаженным,
И слышен в тишине последней муки стон...
И всадник смотрит вдаль: потоком озлобленным
Ползут его рабы, гудит железный звон...
Хохочет великан над миром исступленным.
Кто из нас станет богом?
Альфред Мюссе
О, если ты пророк, – твой час настал. Пора!
Зажги во тьме сердец пылающее слово.
Ты должен умереть на пламени костра
Среди безумия и ужаса земного...
Не бойся умереть. Бессмертен луч добра.
Ты в сумраке веков стократно вспыхнешь снова.
Для песни нет преград, – она, как меч, остра;
И нет оков словам, карающим сурово...
И тусклые года томлений и тревог,
Как факел, озарит, страдалец и пророк,
Негаснущий костер твоей красивой смерти.
Из пламени его голодных языков
Не смолкнет никогда мятежно яркий зов:
«Да будет истина! Да будет правда! – Верьте!»
Печальные, с бездонными глазами,
Горевшие непонятой мечтой,
Беспечные, как ветер над полями,
Пленявшие капризной красотой...
О, сколько их прошло передо мной!
О, сколько их искало между нами
Поэзии и страсти неземной!
И каждая томилась и ждала
Красивых мук, невысказанной неги.
И каждая безгрешно отдала
Своей весны зеленые побеги...
О, ландыши, грустящие о снеге,—
О, женщины! У вас душа светла
И горестна, как музыка элегий...
Есть грустная поэзия молчанья
Покинутых старинных городов.
В них смутный бред забытого преданья,
Безмолвие кварталов и дворцов.
Сон площадей. Седые изваянья
В тени аркад. Забвение садов.
А дни идут без шума и названья,
И по ночам протяжен бой часов.
И по ночам, когда луна дозором
Над городом колдует и плывет,—
В нем призрачно минувшее живет.
И женщины с наивно-грустным взором
Чего-то ждут в балконах, при луне...
А ночь молчит и грезит в тишине.
Я вижу из окна: гирлянды облаков
Из слитков золотых плывут по синеве.
Идет их поздний блеск желтеющей листве,
Печально-праздничной гармонии цветов.
Приходят сумерки. Ложатся по траве
И веют холодом покинутых углов.
Деревьям жаль тепла. Небрежен их покров,
Поблекший, шелковый, в причудливой канве.
И прошлого не жаль. И помнит старый сад
Больную девушку в тени густых ветвей.
Был нежен и глубок ее печальный взгляд.
Пустынно и мертво тоскует глушь аллей.
И в золоте вершин дрожит последний свет,
Как память о былом, чему возврата нет.
Расцветших девственниц безгрешные постели, —
Их свежесть, белизна, их утренний наряд, —
Они весенние, святые колыбели,
Где грезы о любви томятся и грустят.
Упругие черты стыдливо опьянели
И молят о грехе томительных услад.
К ним никнут юноши в невысказанной цели,
Но гонит их душа смущенная назад.
И сон девический неопытен и тих.
И бродят ангелы, задумавшись о них,
На ложе чистое роняя снежность лилий.
Невинные сердца тоску и жажду слили.
Когда же бледный день, целуя, будит их, —
С улыбкой девушки припомнят, – что любили.
Люблю искать случайность приближений,
Среди людей затерянным бродить.
Мы чужды все, но призрачная нить
Связала нас для жизни и мгновений.
И я иду намеки дня следить,
Вникая в гул разрозненных движений.
Одни таят безумье преступлений,
Другим дано великое творить.
И нет границ меж красотой и злом.
Печаль везде томится беспредельно,
В улыбке глаз, в признании родном...
И сладко мне отдаться ей бесцельно.
Я всех люблю и каждого отдельно,
Живу душой в ничтожном и святом.
На храмине, в раскопках древних Фив
Был найден стих безвестного поэта —
Начертанный для вечного завета
На каменной плите иероглиф:
«Благословляйте илистый разлив,
«Плоды земли, рожденье тьмы и света,
«И сладкий труд на лоне зрелых нив,
«И благость Ра, и справедливость Сета»,
Давно лежит затертая плита
В хранилище старинного музея,
Глася о том, как жизнь была проста.
И человек с глазами чародея
Над ней поник, от мудрости седея.
И горький смех кривит его уста.
У древних берегов пустынно тихих рек,
На голом выступе потухшего вулкана
Есть изваяние кумира-великана,—
Творенье грубое, как первобытный век.
Здесь некогда стоял без лука и колчана
С кремневым топором пещерный человек
И в диком творчестве огромный камень сек.
И высек из скалы урода-истукана.
И долго в ужасе лежал простертый ниц,
Молясь на мертвый лик, закатом обагренный.
И век за веком гас, как гаснет свет зарниц.
Вулкан ручьями лав спалил живые склоны.
И только истукан для мировых страниц
Остался навсегда – немой и непреклонный.
В пустыне солнечной, песком заметены,
Стоят, покорные тысячелетним думам,—
Старинный обелиск, изъеденный самумом,
И камни желтые разрушенной стены.
Недвижен тяжкий зной. А ночью с долгим шумом
Встает песчаный вихрь. Белеет лик луны.
Пустыня зыблется, вздымает валуны.
И спят развалины видением угрюмым.
Блуждает возле них голодный ягуар
И царственно взойдя на светлые ступени,
Ложится и следит отчетливые тени.
Молчит пустынный мир. И смотрит лунный шар
На пыль его надежд, на смерть его творений.
И думает о том,– как бледен он и стар.
Ознакомительная версия.