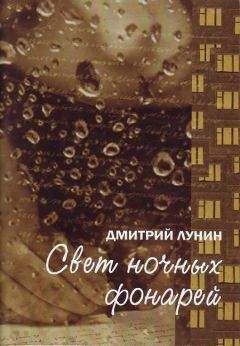В. Полозковой
Нужное слово
входит в контекст,
будто гвоздь в фанеру.
Гортань все слова молитв
превращает в ругань.
В зажатый в тисках понедельник
напрочь забыть про манеры
приличий обрыдлого общества,
напоминающего группу пугал.
Черный январь
сквозь решетки окон глядит зловеще.
Мозг поглощает незримо
чужие мысли.
Отгородиться мечтаешь от всех,
хоть табличку вешай:
«посторонним вход воспрещен»
или «опасно для жизни».
Нужное слово
входит в контекст,
будто гвоздь в фанеру.
Прежде чем руку набить,
разбиваешь морду.
Кровь совершает
извилистый путь по венам.
Метеосводки обычно сулят непогоду.
Вечер пришедший
холодное солнце
склонил на запад.
И, для игры с собой не составив правил,
ты остаешься один
у зимы, в ее цепких лапах.
Снег заметает любые следы,
что другой оставил.
Сонет, написанный на спор
С каждой секундой громче тишина.
И человек, пытавшийся мгновенно
всех осчастливить, бритвой режет вены
в отчаянье, поскольку лишена
сия затея смысла. Там, за гранью
простого восприятия, пропал
начальный смысл, а мы еще играем
в спектакле, обреченном на провал,
поскольку мир — театр, но где замену,
чтоб отдых дать измученной душе,
нам отыскать? Взирая на картину
унылой жизни, стонет Мельпомена.
Еще не начал жить, а смерть уже
костяшками стучит в твою квартиру.
«Заметив, что весь мир погряз во лжи…»
Заметив,
что весь мир погряз во лжи,
все думаешь: «Моя будь воля — я бы…»
А сволочь-время
знай себе бежит,
чихая на анапесты и ямбы.
Потом,
с тоскою глядя в неба синь,
в отчаянье заламываешь руки…
Уж если даже Пушкин —
«сукин сын»,
тогда все остальные —
просто суки.
«Шанс выжить здесь всегда один из ста…»
Шанс выжить здесь
всегда один из ста,
а выживешь — так радуешься,
ибо
здесь даже философия проста:
проснулся —
и на том уже спасибо.
Вновь льется свет
сквозь окон решето.
Вглядись в газетных
скопища идиллий:
кому опять попало
ни за что?
Кого еще
бесстыдно наградили?
Посмотришь чуть
попристальней вокруг,
людскую ложь
на сердца чашах взвесив,
огромный мир
как ссучившийся друг
уже не будет
так с тобой любезен.
Взял бумагу и написал:
«Такого-то месяца и числа
оборвать хочу своей жизни виток.
Не виним в моей смерти не будет никто».
Потом, труп осматривая, судмедэксперт,
поглядывал в окна на решетчатый свет
и думал: «Какая разница как и когда?»,
ибо не верил в существование страшного суда.
Потом, как хищники по лесу рыщут,
следователи осматривали жилище:
ничего необычного, вроде как надо,
жил ныне усопший согласно окладу.
После, с глазами как из страха литыми
по комнатам шастали понятые.
А лейтенант в протоколе писал:
«Такого-то месяца и числа…»
«И снова взгляд скользит по стенам дома…»
И снова взгляд скользит по стенам дома.
И — ночь в прямоугольнике окна.
Вновь кажется, что вовсе не знакома
картина мира. Только полотна
нам не найти, чтоб написать другую
и сделать вывод: прошлое — вранье.
Здесь не гнездятся голуби, воркуя,
лишь черное кружится воронье.
Ему, должно быть, ведомо и Богу,
что предстоит безумная игра.
А после позабыться не помогут
ни доктора, ни водка, ни игла.
Решеток оконных крест.
Из мебели — только стул.
Стремясь к перемене мест,
часы посылают стук,
но стук летит в пустоту,
в извечное никуда…
Из мебели — только стул.
Стена закрывает даль.
Ты чувствуешь смену дней,
к стене прислонясь, сутул.
Ты можешь пройти к стене
и можешь усесться на стул.
А можешь вовсю кричать,
тебя не услышат здесь…
Как каинова печать
решеток оконных крест!
«Край горизонта луч почти достал…»
Край горизонта
луч почти достал.
Одно мгновенье, миг —
и вечер замер
вальяжно-неподвижно
как звезда,
красуясь под прицелом телекамер.
И сожалений
нет в тебе ничуть,
какой бы путь
себе ты ни наметил,
что можешь
только кадром промелькнуть
на фоне убегающих столетий.
Упорно и с усердием,
как на предприятии рабочий,
занимаюсь тем, что смотрю в окно.
Хотя, мое занятие
с его занятием отнюдь не сходно.
Самое парадоксальное,
что не днем, а в два часа ночи.
Фактически ничего не видно,
но вообразить можно что угодно.
А вообще, по словам
самых близких родных,
все мои беды
от недосыпанья ночного,
от бестолковых писаний,
смысла которых
не ведаю даже я сам….
Но мысли, рождаясь,
по строкам расходятся
абсолютно
точно
как стрелки компасов
расходятся по полюсам.
2005 г.
«Если подарит вам кто коня, то всегда троянского…»
Если подарит вам кто коня,
то всегда троянского,
осколки разбитых иллюзий
воедино уже не склеить.
Сядешь писать,
перед тем с четверга
беспробудно пьянствуя…
Боже, зачем я поэтом стал,
лучше б играл на флейте!
Вокруг суеты
лабиринты обычных
житейских будней.
Не встанешь по звону будильника —
снова весь день потерян.
Что-то фальшивое слышится
в каждом «я больше не буду».
Если верить газетам —
конец света через неделю.
Кто ты и с кем ты общаешься,
если живешь в тихом омуте?
Прибьет ненароком кого-то
с души свалившийся камень.
Как нитки, в клубок
намотаю мыслей,
круги намотав по комнате,
чтоб прикоснуться к чему-то новому,
чего не объять руками.
Опять один. Взберешься на карниз,
решить пытаясь жизни уравненье.
«С вершины все дороги только вниз», —
уставший мозг твердит прямолинейно.
Тебе осточертел угрюмый вид
пейзажей городских, где воздух выпит,
груз размышлений о людской любви
и комнатенки параллелепипед
настолько, что, с собой не совладав,
опустишь взгляд на полосы асфальта.
Когда был чуть потолще календарь,
все выглядело гладко и занятно.
Теперь в душе сплошной зловещий вой,
который заглушить ничто не может…
И ты, наедине с самим собой,
на головы готов плевать прохожим.
Когда пустота поглощает иллюзии,
куда устремить
свой взгляд?
Будто на фронте —
из тех, что не трусили, —
никто не вернулся назад,
погибли наши с тобой отношения,
их новый сгубил виток.
С двумя неизвестными уравнение
не может решить никто.
«Время врачует раны, но портит нервы…»
Время врачует раны, но портит нервы.
Прямоугольник окна не пропустит взгляда.
Истощены непреклонной зимы резервы,
а ей еще месяца два продержаться надо.
Ты написал много строк,
только кто прочтет их?
Голос твой молкнет,
как отзвуки глохнут в вате.
Век накрутил до предела тебя,
точно счетчик
за потребленный ток
накрутил киловатты.