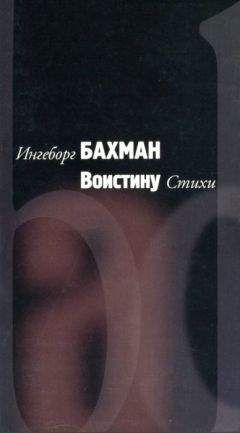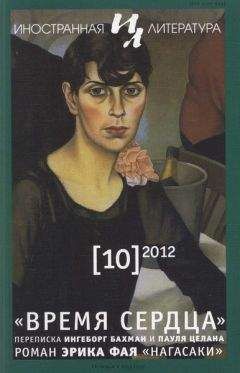Auf der leeren Bühne stehen, in schwarzen Kostümen, mit dem Rücken zum Publikum, Menschen mit Kandelabern, während Myschkin, zum Publikum gewendet, spricht.
Mit einem geliehenen Wort bin ich,
und nicht mit dem Feuer, gekommen
und schuld an allem, о Gott!
Es sind die Kreuze getauscht,
und das eine wird nicht getragen.
Schwach lob ich die Strenge
Deines Gerichts und ich denke
schon an Vergebung, ehe Du sie gewährst.
Wo die Angst in mir aufspringt
und Helle vor mir herwirft, entdeck ich
Schreckliches und meine Schuld
an allem, an dem Verbrechen,
mit dem ich noch diese Nacht
in Deine Nacht kommen muß,
und mein heilloses Wissen will ich
nicht preisgeben an mein Gewissen.
Sei Du die Liebe, ich bin nur in leisem
Fieber aus Dir hervorgegangen
und unter Fiebernden hinfällig
geworden. Deine Blindheit erkennend,
vor der wir eins sind im Dunkel,
bekenn ich, daß ich schuld bin
an allem, denn Du, seit Du uns nicht
mehr siehst, zählst auf ein Wort.
Ein roter Teppich wird herausgerollt. Myschkin dreht sich um und steht jetzt auch mit dem Rücken zum Publikum. Nastassia erscheint und versucht, auf die Vorderbühne zu Myschkin zu gelangen, doch Rogoschin springt einige Male, mit einem Messer in der Hand, dazwischen. Die schwarzen Gestalten fuhren an Ort und Stelle entsprechende Schritte zu einem Bolero aus. Schließlich ergreift Rogoschin Nastassia und trägt sie, mit dem Rücken zum Publikum, von der Bühne. Auch die schwarzen Gestalten gehen ab. Die Ikone senkt sich aus dem Schnürboden herunter. Myschkin steht ohnmächtig davor.
Öffne mir!
Alle Tore sind zugefallen, es ist Nacht,
und was zu sagen ist, ist noch nicht gesagt,
mir!
Die Luft ist voll von Verwesung, und mein Mund
hat den blauen Mantel noch nicht geküßt,
öffne mir!
Ich lese schon in den Linien deiner Hand, mein Geist,
der meine Stirne berührt und mich heimholen will,
öffne mir!
Endlich tritt Rogoschin heraus, und Myschkin geht ihm entgegen.
Geheim ist der Mund, mit dem ich morgen rede. Ich will
diese Nacht mit dir wachen und werde dich nicht verraten.
Behutsam fuhrt Rogoschin Myschkin hinter die Ikone. Die Bühne wird ganz dunkel, und im Dunkeln spricht Myschkin die beiden Terzinen.
In den Strängen der Stille hängen die Glocken
und läuten den Schlaf ein,
so schlafe, sie läuten den Schlaf ein.
In den Strängen der Stille kommen die Glocken
zur Ruhe, es könnte der Tod sein,
so komm, es muß Ruhe sein.
Es wird etwas hell. Aus dem Schnürboden kommen weiße Stricke zu den Klängen der Apotheose herab. Myschkin bleibt unbeweglich stehen, und während immer mehr Stricke herabsinken, erscheinen Tänzer, die in verhaltenen, feierlichen Bewegungen den Ausbruch des Wahnsinns darstellen.
Choreographie: Tatjana Gsovsky
Musik: Hans Werner Henze
МОНОЛОГ КНЯЗЯ МЫШКИНА{7}[23]
из балета-пантомимы «Идиот»
Двигаясь, словно куклы, на сцену выходят все участники представления — Парфен Рогожин, Настасья Филипповна, Тоцкий, Ганя Иволгин, генерал Епанчин и Аглая. Пантомима прекращается с последними тактами интрады,[24] на середину выходит князь Мышкин. Он произносит свой монолог без музыкального сопровождения.
Есть слово у меня, я взял его
из рук печали, недостойный,
ибо с чего бы мне
достойней быть других —
сосуд для облака, что пало
с неба и погрузилось в нас,
ужасное, чужое,
в нем отблеск красоты
и ужас весь земной.
(О мука света, мука
жара, похожего на все другие, жара,
которым мы обязаны недугу
и общей боли!)
Пускай по сердцу мчится поезд безъязыкий
покуда не стемнеет,
и все, что светом было мне,
вновь не вернется
во владенья Тьмы.
Наверно, из-за этой самой боли
у вас внутри все то, что вы
для счастья своего творите,
не служит счастию, все то,
что вы во имя чести делаете, вовсе
не служит вашей чести.
Ведь демонами чести смех сожжен,
увы, бездонна чаша
горькой жизни,
дарованной нам, чтоб испить до дна.
Нет отклика на встречу,
нет ответа, пока текут без остановки
слезы, без слов, без
остановки, без
причины, когда как будто
никакой причины
им наш тревожить слух.
О немота любви!
Берет за руку каждого, кого называет.
Парфен Рогожин, сын купца,
про миллион не знает ничего.
Ночами зимними упряжку тормозит,
не доезжая до рядов торговых,
и дальше не желает ехать.
Швыряет деньги в снег,
ведь снег сродни
щекам твоим, Настасья
Филипповна, опасную кривую
вычерчивает рот, твое назвавший имя,
говорят, снег побелил лицо твое,
а в волосах — пристанище ветров
(я не могу сказать, они капризны),
глаза твои — глубокие овраги,
и в них нередко гибнут экипажи,
в снег обратившись, этот снег —
источник белизны
твоих ланит.
А, Тоцкий — это чересчур, и прежде,
чем обрести покой: мгновенье детства,
миг прошлого держа в руках, теперь же
настало время взглядов, время
губ для вас обоих наступило.
Ты, Ганя Иволгин, признайся, сплетены вы все
одною нитью,
у тебя в руках узлы ее, и ты
их стягиваешь крепче,
с недоброю ухмылкой на лице.
Ты слишком много хочешь от других,
но строгостью к себе не обладаешь.
Тобою движет лишь одно стремленье:
глядеть во все глаза, как исчезают
в оврагах тех чужие экипажи,
смотри, не попади под колесо.
Нет, не случайно, генерал Епанчин,
судьба нас часто сталкивает с теми,
кого мы избегаем. От детей
мы отдаляемся, влекомые страстями,
и у чужих дверей стоим на страже,
самих себя не в силах устеречь.
Что ж ускользает? Белый, ледяной
сон юности, которая не ищет,
не хочет снисхожденья?
Совершенство? И красота,
да в облике таком, что мы
довольствуемся тайною? Аглая,
в тебе я узнаю
посланницу совсем иного мира,
куда мне не дозволено войти,
и обещание, какого не сдержать мне,
и счастие, какого не достоин.
Поворачивается и теперь стоит лицом к публике.
Проснитесь же для жизни, освещенной
сияньем искусительниц-планет,
которые от нас хотят поступков.
Но вижу только танец бессловесных
под музыку без слов и без границ.
Его монолог постепенно перерастает в неуклюжий кукольный танец.
Шаги, шаги — они лишь отдаленно
напоминают редкостные звуки,
которые мы слышим.
Мышкин постепенно вовлекается в танец, который призван подчеркнуть глубокое одиночество каждого из участников.
Интерьер, воссоздающий атмосферу цирковой арены. Настасья Филипповна вздорно понукает Тоцкого, Ганю, генерала, в мощном трагическом и опасном танце выплескивает свою власть над ними. Появляется Рогожин. Настасья, кружась, скользит мимо всех четверых. Постепенно, по одному предмету, с нее спадают одежды — в конце концов она оказывается под золотым шаром в одном лишь белом трико. Одну руку поднимает к шару, другую протягивает Рогожину, который в ожидании стоит в сторонке. Тут к ней подходит Мышкин.
Остановись! Молю тебя,
лицо моей единственной любви,
останься светлым, чтоб из-под ресниц
на мир глядели два прекрасных глаза,
лицо моей единственной любви,
пускай твой гладкий лоб
возвысится над бурями сомнений.
Они твои разделят поцелуи,
и осквернят твой сон, и оклевещут —
ах, не глядись ты в эти зеркала,
тебя в них вожделеет каждый!
Мышкин выводит Настасью на авансцену, становится вместе с ней на трапецию, которая опустилась из колосников. Вдвоем они поднимаются вверх. Звучат несколько тактов нежнейшей мелодии.
Будь справедлива, снегу года верни,
кто ты сама, пойми, и пусть снежные хлопья
тебя случайно коснутся.
Да, таков этот мир:
и звезда, где мы жили детьми,
ныне в колодцы
дождем часов пролилась,
их застывшим весельем.
Это лишь жалкая тень
в прошлом веселой игры:
ветер, качели и смех,
но не то теперь время,
и сам для себя — никто,
всякая цель — пуста,
и музыка только сбивает:
не попадая в тон,
вторишь упорно
песне старинной,
что нас поманила счастьем.
Только не лезь в толпу, не лезь в оркестр,
в котором нас проигрывает мир.
Ты рухнешь, только выпустишь смычок,
заговоришь на языке телесном,
на бренном языке.
Настасья соскальзывает с трапеции прямо в объятия Рогожина.
Перед огромной красной иконой стоит стремянка, на ней сидит Мышкин. Рогожин лежит на нарах и с нарастающим возбуждением слушает рассказ Мышкина, напряженно наблюдая, как тот спускается вниз.