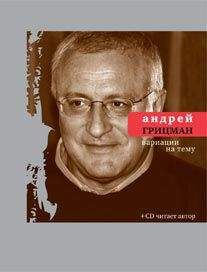Риголетто
Как там, опера? Нет, оперетта:
ядовитый горбун в мешковине.
Опереточный Риголетто
перед залом скучающим стынет.
Ему скучно влачиться без дочки,
старику, к колокольне высокой
и звонить о своей недотроге —
о гордыне своей одинокой.
Дочка чудная хочет на воздух,
задыхаясь от пыльного света.
Будь что будет, а что будет после:
окончания нету в либретто.
Он, горбун, жаждет герцога крови
в полутьме, в подземелии тусклом.
От реальной, сверкающей боли
на полу театральные блёстки.
Нету крови, лишь перхоть да копоть,
бледный стон стариковской гордыни.
Затерялись в подвале глубоком
песни герцога, и рядом с ними:
хлам родительский, копии писем —
педантичная страсть каллиграфа.
Под чернильной поверхностью спеси —
водянистые призраки страха.
Это – азбука Морзе,
разбросанная бисером
по страницам.
Каждая единица
обозначает молекулу дыхания,
а обозначив, исчезает,
тает на языке, как мята,
оставляя меты тут и там,
незаметные никому, кроме
членов тайного общества,
никогда не вышедшeго на площадь.
Площадь оцеплена статуями,
торговые ряды пусты,
памятник смотрит в другую сторону,
трамвайные пути заросли бурьяном.
Пахнет тлеющими листьями,
и перекличка сторожевых
стынет на лету в вязком воздухе
и висит коническими штыками
на гудящей сети
беспроволочной связи
чьего-то спутника,
пропавшего без вести.
Ночной полёт над Кандагаром
долиной дальней Шаганэ.
Казак запахивает бурку.
Трофею рад он не вполне.
А на боку усталый Пушкин
судьбе глядит в вороний глаз.
Вдали рокочущие танки
на батальонный водопой
прошли и сгинули. Вотще
стоит осенняя погода.
Всё к Рамадану. Вообще:
есть виноград, арбузы, дыни.
Могучий отрок гор таджик
наставил гордый свой кадык.
И только ястребу неймётся
над ровным станом англичан.
Там бессловесные индусы,
поставив в козлы карабины,
рассевшись, пьют пахучий чай.
К рассвету всё не шевелится.
Печальны чары мрачных гор.
В выси висит стальная птица.
Проснулся Лермонтов. Спешит
по косогору на перемену вахты.
Муэдзин заводит свой гортанный зов.
Узбек, закуривая «Винстон»,
дороден, хитр и дальновиден,
свой открывает магазин.
Солдаты делят сахар. Воздуха раствор
теплеет. Становятся яснее различимы:
грязь базара, бараки пленных, изгородь,
ров нечистот и пластиковый строй
фугасов кока-колы в шалмане на углу,
который сторожит весь високосный год
в чалме столетний дед.
Тут зябко поутру.
Огромный глаз погас и киноварью
вытек и застыл.
A вахтенный моргнул
и АКМ потрогал. Замёрзла
граница неба, гор и темноты,
где зреет, нарастая
донным, дальним гудом,
ночной полёт над Кандагаром.
Как белофинны в маскхалатах,
немые вспышки белых звёзд.
Прогноз погоды сводкой с фронта
звучит. И обещанья гроз
в глухой долине Дагестана
с небес спадают серой манной
на неподвижный Гельсингфорс.
Точнее, Кенигсберг, но сверху
за тыщу вёрст на разобрать.
Заладят – киселя хлебать!
Ржавеет утлая подлодка
с торпедой звёздной симбиозна.
Там некогда тонул десант
на боковых путях прорыва.
Все письма посланы, но вряд ли
на дальнем берегу пролива
их в срок получит адресат.
До нас, при перемене ветра,
летит погасшая зола
и привкус дизельного дыма.
У школы холм металлолома
не остывает до утра.
Глядишь, а за окном зима,
глядишь, и жизнь пошла по свету,
родных разбросанных ища.
В глуши молочный путь затерян,
у каждого своя война.
А у доживших до рассвета
уже разведены мосты.
Они давно живут без сна,
как раньше, спать ложась без света.
Двадцатый век за всё живое…
Судьба из века в век проходит
стопами, лёгкими, как сон,
разведкой на бесшумных лыжах,
ища с огнём надёжный дом.
Где люстра в кухне неподвижна
и только рюмки дрогнут нежно
от донных взрывов дальних войн.
Я вернулся взглянуть, как живётся снаружи,
просто вздохнуть, повторить своё имя.
Я увидел: бульвар наполняется паводком света,
и деревья стоят все в пуховых платках хлорофилла.
Я проснулся легко, помня только о сыне.
Отойди на минуту, подумай, а может быть, этот остаток,
быстрый спазм полусна, oн и служит моим оправданьем.
Пресловутое чудо мгновенья остановлено гипсовым взглядом.
Это странное чувство, которое, с первого взгляда,
нарушает людьми предназначенный сердцу порядок.
Я прошу – загляни через слой неразборчивой плёнки,
сквозь коросту годов. Ты увидишь, что нету ошибки.
Это слой наносной, скорлупа, оболочка, но, как у ребёнка,
там мерцает изменчивым светом тепло сердцевины.
И как в детстве – предчувствия горькие всхлипы.
Мы идём по пустеющим улицам, гадая, насколько
чья-то доля вины тяжелее в последнем итоге.
Не волнуйся, мой милый, сказала усталая Ольга,
это просто душа ещё постарела немного,
всё равно под конец будет всем одинаково больно.
И недолго нам ждать. В парке гулко.
Дорогие места отзвенели стеклянной листвою.
Каменистый ручей к декабрю замёрз ненадолго.
Вот Thanksgiving,[3] и пригороды Вашингтона
по утрам застывают на дне голубого раствора.
Это северный Юг, где мы когда-то любили
синь газонов и реку в дремучих лианах.
Храм мормонов эмблемой Мосфильма на звёздном
экране.
Всё останется, но постольку поскольку
остаётся хоть кто-то из тех, для которых не странно
расставлять бесполезные вещи на время по полкам ничейным,
на ничейной земле постоянного перемещенья.
Средь разбитых зеркал мне знакомо лицо анонима,
вновь воскресшего, не просящего о прощенье,
после четверти века любви, проходящего мимо.
Потому что, раз нету любви – нет и прощенья.
Есть, однако, прощанье. Не то с языком созреванья,
не то с воздухом в мёртво-резервном пространстве.
Когда всё ускользает, остаются хрусталики зренья,
среди мёртвых окопов – озёрный хрусталь Зарасая,
скифский дар – халцедонный прибой Коктебеля.
Не грусти. Всё равно мы живём на краю Средиземного моря:
дымный запах акаций, ржавый танкер и тающий берег.
Всё пройдёт и остынет. Но есть предрассветное горе.
Когда души расходятся, больше друг другу не веря.
Это значит – не верить себе, забыв о потере,
готовить себя к другому рожденью.
Наклонясь над постелью, память вспомнит по воскресеньям
о глубинном тепле, постоит надо мной, и простынет
след ее, затихая шагами за дверью.
То с одним, то с другим —
расстаёмся с Битлами.
Да и сами, глядишь,
из окошек глотаем
бездну общих небес
и гитарного гуда,
узнавая с утра,
что случилось под утро.
То ли Джон, то ли Джордж,
то ли ты, то ли я.
Так в табачном дыму
тает ткань бытия.
Быт ползёт.
Расстаёмся с детьми
навсегда. До-ре-ми.
До-ре-ля. Да и я.
Гимн пропавшей страны.
Расстаемся и мы.
Он звучит, как аккорд
опустевшему залу.
Нажимаешь «Remote» —
оживает гитара.
Вот экран-натюрморт.
Ставший общим ландшафт,
фог над гаванью рано.
Ливерпуль ли, Нью-Йорк,
где в траве свечи на
земляничной поляне
всё дрожат до утра.
Покурить и допеть,
может, станет не пусто.
И становится грусть
продолжением юности.
Так становится смерть
атрибутом искусства.