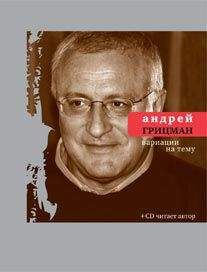* * *
Минус двадцать пять. Лафа, ребята!
Милый репродуктор поцелуй.
Ледяное утро безвозвратно
превратилось в мёрзлую золу.
Чёрный ход забит ещё с гражданки,
с тех времён последних белошвеек.
Дворники хрустели спозаранку
чёрным льдом по слюдяной Москве.
Шли они, лимитного призыва,
и крошилась винегретом речь.
Южная, тверская и с Сибири,
и темнела беспредельно ночь.
«Ароматных» дым атакой газовой
исподволь по домовым углам.
И отец, пропахший йодом, камфорой
и Вишневской мази сытным запахом,
тихо вслух Есенина читал.
Ты когда-нибудь снова входил в свою прошлую жизнь,
где твои зеркала висят по текучим стенам?
Проснись, говорит она, говорю – проснись!
Это только ночная дикая пена.
А ты, как зомби, идёшь один, говоришь с детьми,
в голове крутишь Солярис, чай пьёшь с тенями.
Проснись, живи третью жизнь – она всё твердит.
О чём говорит, когда близкие приходят за нами.
И чтоб ты ни делал, куда бы ни шёл,
заломив на седой голове незримую кепку, —
далеко не уйдёшь. Так зияет неровный шов.
Ползёт, на живую нитку любви сшитый некрепко.
Так всё узнаваемо, зримо при свете сквозного дня,
больнее и резче, чем донной бензо-диазепиновой ночью.
Как жить так можно – теряя, бросая, раня,
когда время не лечит и боль пульсирует горше?
Где-то в сознании – газгольдеры, чёрные дыры, аспид нутра,
как эпидемия гриппа мятежных двадцатых.
Кроется предназначенье на дне до утра,
Родины дальней верста в цветах полосатых.
В сотках на всех, в набухающих венах дорог,
в небе отёчном, нависшем над городом сонным,
где продолжается кем-то отмеренный срок,
но воспрещается вход посторонним.
Я постою, стороной по краю пройду
вдоль государственной, мне неизвестной границы.
Лица родных и друзей поплывут поутру
в свете Господнем, в преддверии тихого сердца.
И не понять, почему же ещё невдомёк —
так далеко на окольном пути провиденья:
город в тумане, где мы проживаем вдвоём.
Но не помогут от грусти эти картонные стены.
Я проснулся, забыл две строчки.
А потом нахлынула муть с панталыку.
Так подумаешь, а что проку, не проще ли?
Вести, хлопоты как из ведра с дыркой.
Вести, новости, день ненадёванный,
грусть невесомая лучом подсвечена.
Вот и странник тот очарованный
превращается в жида вечного.
Безъязыкого в бесконечности
слов стихии, явлений чуда.
Там, по пересечённой местности,
архетипом плывёт Иуда.
Словно душный туман от фабрики
тех мазутных годов идиллии.
И чернеют в земле сребренники,
где Иуду давно зарыли.
Мы бредём от холмика к холмику,
и не видно на расстоянии
в дымке утренней того облика.
Что-то там мерцает за облаком,
а приблизишься – медленно тает.
Холодок бежит за ворот.
Поводок плывёт по горлу.
Человек бежит за город.
Далеко не убежишь.
Ешь изюм, малину, творог.
Минералка – по утрам.
Ты же сам себе не враг!
Так подольше поживёшь.
Только не глядись в осколок:
там ограда и овраг.
Химчистка, девки, кот уставший
бредёт на цепи в городской окрестности.
Здесь, в государстве орла и решки,
я занимаюсь подпольной деятельностью.
Виртуальная жизнь, ветра от гавани
на излёте зимы к сетям астении.
Уплывает облако в дальнее плавание
и оседает на дальнем сервере.
Имперский путь за кордоном тянется,
пылит дорога навстречу Аппиевой.
Вряд ли судьба до поры изменится,
но пора уже выдавливать каплю
за каплей, что на лето и задано.
Ветер гудит в проводах разлуки.
Скрипит турникет райского сада,
чужая жена заломит руки.
А я привык. Вот, билет уже выписан.
Рожа на визе – хоть в барак транзитом.
В метели мерцают бледные лица
на отмороженном том граните.
Метёт позёмка в полях безвременья,
виза ветшает в столе одноразовая.
«На будущий год», – говорят евреи.
И последнее слово ещё не сказано.
Она, в принципе, безответна.
Обращайся к самому себе,
невольно жестикулируя,
сквернословя косноязыко.
В процессе валяния
у бетонной ограды Храма Искусств
лежи, наслаждайся
своей музыкой.
Глядишь, автобус проедет,
женщина через жизнь пройдёт.
Поезд далёкий, собеседник милый,
гудком ответит.
Где-то в белёной комнате
она пряжу свою прядёт.
Тут и там узелком неприметным метит.
Так что, гляди, вся ткань в узелках, стежках,
в узорных петлях, потом – в швах и разрывах.
Слышишь, словно табачный дым, тает подпольный страх,
когда полночное дно – всё живое, в небесных рыбах.
Облако, озеро, только нету башни.
Дышу в пронизанном солнечном срубе.
Сосед Тургенев пройдёт на охоту с ягдташем.
Зайдёт, присядет за стол, «Earl Grey» пригубит.
Головой покачает: постмодернисты!
А потом вздохнёт: «Бедная Лиза!..»
Перед нами обоими лист стелется чистый.
Посидит, уйдёт, вспомнив свою Полину.
Он уйдёт, и стих его тает белый,
как следы января в холодящей чаще.
Незримый джип затихает слева.
Слава Богу, Сергеич заходит всё чаще.
Слава Богу, вокруг гудит заповедник,
и здесь в глубине нету отстрела.
Пусть это будет полустанок последний,
где душу ждёт небесное тело.
Летит оно, – скорей всего, мимо.
Висишь среди крон в деревянном кресле.
Вокруг леса шелестят верлибром,
Да ветер гудит индейскую песню.
Риверсайд-парк листвою медленно выстлан.
Бульдожка счастлив, комочек тепла лучится.
Я с того берега, слава те, Господи, выслан
в город, где всех нас выкормила волчица.
Мы в плавучем дому теперь, дорогая.
Зелёная память московских дворов мерцает.
Закроешь глаза, дотянешься до родного.
Но где оно спит, мы и не знаем сами.
Это наш дом, где наше не знают имя, но
рыбой мезуза летит на свет от порога.
Зимней грозой по реке прошумел Уитмен.
Только из этой реки ты не пей на дорогу.
За рубежом светлячки дрожат над Нью-Джерси,
цепью на север, вверх по долине.
На берегах последних мы остаемся вместе.
В небо Манхэттен плывёт на каменной льдине.
Как стая птиц уходит на Левант,
в просветы облаков, за вереницей слов
летя свободно, на призыв неслышный.
Я, не дыша, их отпускаю выше,
и всё звучит: пора, мой друг, пора.
Пора и впрямь, быт кашляет с утра,
продолжена опасная игра,
но чудная, летучая затея
влечёт. Я просыпаюсь, молодея,
пернатым оставляя на вчера
глотки и крошки. И один глядишь
на остров горний Китеж иль Воронеж,
как вылетают светлые, на крыльях
любви ли, нежности, тоски гонцы, гостинцы.
И каждый – первенец, все первенцы они,
потом я пропадаю на свой страх
и риск, из мытарной страны
в ничейную страну переселенцем.
Который год идёт в просвете дождь.
Итожь те капли или не итожь.
Плывёт дыханье дымное и вздох —
последний углекислых дел итог.
Как эпителий стелется, лоснясь
по лбу любимой, исчезая днесь.
Но каплями летят сигналы бес —
конечного дождя других небес.
И если говорить не суждено —
осуждены на дар по одному.
Один я выпью за тебя вино.
Конец строки уходит за канву.