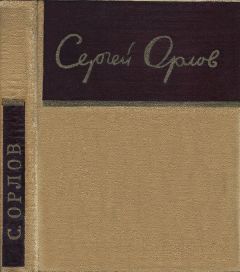1960
1
Умели деды строить грады
И веси на Руси святой.
Стоят они, очей отрада,
Красой равняясь с простотой.
На наших северных широтах —
Видать, для света и тепла, —
Как солнышки ручной работы,
Горят над ними купола.
За Вологдой в дали таежной,
В конце проселка на пути,
Зайдешь под свод, и невозможно
Глаза от света отвести.
Веселый грешник Дионисий
Здесь песни пел и краски тер.
Он перенес на стены кистью
Тепло зари и синь озер.
Шеренги праведников рослых
Стремятся в рай, а там встают,
Толпятся мачтовые сосны
У Дионисия в раю.
Рай на горах, в бору с брусникой…
А может, правда, рай — в лесу?
Мой край родной, мой друг великий,
Как опишу твою красу?
Пылает северное лето,
Недвижны сосны. Спит вода.
И, на стожар в лугу надета,
Дрожит вечерняя звезда.
А в дальней дали с новой силой
Через дремучие леса
Старинный град, райцентр Кириллов,
Плывет, расправив паруса.
2
Я видел рай не нá небе,
Он в душу мне запал.
Его художник нанятый
В церквушке написал.
Но неподкупна кисть его.
И вот живет века
Работа Дионисия,
Как поле, как река.
Рай с соснами косматыми,
В бору заречном он,
С брусникою, с опятами, —
Я в этот рай влюблен.
А он, видать, без памяти
Любил свой бедный край,
Его на стенах каменных
Изобразив, как рай!
1960
Из лавки овощной доставленный,
Кочан капусты — это сгусток
Поэзии, но не прославленной,
Поскольку он — кочан капусты.
Кочан капусты — это золото
Дождей, качающихся, грузных,
И жарких дней, на солнце колотых,
В клубок закрученное с хрустом.
В нем пенье птиц, ветров смятение,
Прохлада тени, запах мяты
И первое тепло весеннее,
И звон отточенной лопаты,
И холодок росинки маковой,
Алмазной, гордой и прозрачной,
На листике рассады лаковом
Оброненный зарей кумачной.
Поэзия опубликована,
Все начинается, как вызов.
Сталь синяя секиры кованой
И плаха, струганная снизу.
Река в кастрюле медной взорвана,
Топочет пенными кругами,
Шипит плиты планета черная
И брызжет синими цветами.
О, георгины кухни газовой,
Железные цветы горелок!
Кочан капусты, волей разума,
В своей работе наторелом,
Разделан на лапшу и звездами
Колючей соли пересыпан.
А вот уже и лавры возданы
И перцем сдобрены до всхлипа.
И клубы пара ходят тучами,
Пахучи, яростны, приветны.
Щи возвышаются могучие.
Над ними небеса и ветры.
Цветочки на фаянсе замерли,
И каравай раскрыт, как библия,
На них глядят, их ждут, их налили,
Они воскресли и погибли!
1960
Как моются полы до бéлого каленья? —
Перегибая сильные тела,
Подолы подоткнув и обнажив колени,
Хозяйки моют пол в субботу добела.
Грохочут чугуны, гоняют тряпки воду.
Тяжелым кóсарем раздроблена дресва,
Со щелоком парным и грацией свободы
На праздник утверждаются права.
С угла и до угла летает поначалу
Березовый голик, раздавленный ногой,
Обсыпанный дресвой, пока молчат
мочала, —
Всему черед и честь, как в каждой
мастерской.
Здесь чистоту творят, а не полы здесь
моют.
Ладони горячи, и рук полет широк,
И лифчики трещат. Здесь дело не простое,
Здесь каждый бы из нас за две минуты
взмок.
А им хотя бы что! Они как будто рады,
Лукавы их глаза, и плеч изгиб ленив…
Я тоже мыл полы в казарме по наряду,
Но не был весел я, тем более — красив.
А во дворе горят половиков полотна,
Как радуги на кольях у ворот.
Хозяйки моют пол под праздник, в день
субботний,
И праздник настает…
1960
Рукав просторный засучив по локоть,
Сжимая пальцы в узел кулака,
Его валяют на столе широком
И бьют его с размаху под бока.
Нет, это не обычная работа,
Священнодейством пахнет на столе,
Встречаются здесь грохот обмолота
С порой весенней сева на земле.
Полет ладоней яростен и нежен,
Все праздничней крутая пляска рук.
Валяют хлеб на кухне первый, свежий,
Труда и счастья замыкая круг.
Дожди и ветры пролились на камень,
Гром прогремел заслонкой, день окреп.
Веснушчат, рыж и кругл, как солнца
пламень,
На кирпичах благоухает хлеб.
О нем звенит считалка, пляшут дети,
Газеты пишут, и в штормах судеб
Есть мера высших ценностей на свете —
Любовь, как хлеб, и дружба, словно хлеб.
А в кухне окна настежь, пахнет мятой,
Горячей глиной, молоком парным,
Хрустящей коркой, дымом горьковатым
И полевым простором распашным.
На полотенцах петухи горласты,
Белы полы, как на реке песок.
И все предметы к торжеству причастны.
А день просторен, светел и высок.
1960
Гончар на круге деревянном
Ей отдал взмах руки своей,
А после печи цвет каляный,
Пожар малиновых углей.
Огня, воды и глины дружба
Застыла каменным цветком.
Ах, эта глиняная кружка
С парным душистым молоком!
Густым, ромашкового цвета,
Белей любых берез в селе,
Дар утренней зари и лета
На белом скобленом столе.
Под ручку пальцы вдеты снова,
В ладони кружка улеглась.
Глоток, как вдох в бору сосновом,
И вот уж утвердилась связь
С жарой, где воздух сенокоса,
Звеня, пронзают овода,
С большим зеленым лугом росным,
Где речка стынет, как слюда.
Где женщина по рани первой,
По знобкой рани босиком,
Еще не выспавшись, наверно,
Уже прошла, звеня ведром.
Ах, эти глиняные кружки
С парным душистым молоком,
Как их берут поутру дружно
Детишки, вставшие кружком, —
Белоголовы, синеглазы,
В рубашках, стиранных сто раз,
Двумя ладошками, как вазы
Берут хрустальные у нас.
Блестят от соли скипы хлеба,
Сопенье слышится одно,
И не глаза глядят, а небо
Глядит на глиняное дно.
1960
Мы с товарищем бродим по Невской
Дубровке,
Два довольно-таки пожилые хрыча,
Будто мы разломили на круг поллитровку,
Мы с товарищем плачем и солдатские
песни поем…
Вот он, берег Невы сорок первого года.
Двадцать лет поднималась и жухла трава,
Шли дожди и снега, лишь одна оставалась
пехота, —
Та, что в берег вцепилась, от дивизии рота
В сорок первом году, ни жива, ни мертва.
Вспоминает полковник лейтенантское
звание,
Вспоминает о Женьке, санитарке
глазастой, —
Как она полоскала рубашку свою и рвала,
как ромашку, для раненых, —
И смеется, как будто бы вспомнил о счастье.
А в траве земляника пылает на брустверах,
И солдаты лежат между ржавыми минами,
И, наверное, Женька — красавица русая —
Пулеметом порубана, где-то рядышком,
милая.
Вспоминает полковник, а земля
исковеркана,
Двадцать лет ничего на земле
не разгладили,
Да и мы — как земля, — наша память,
наверное,
Будет тоже, как эта земля, вечно
в ссадинах.
На шоссе ждет машина нас, зря
надрывается.
От воронки к воронке над траншеями
медленно
В бой на Невской Дубровке от земли
отрываются
Пять солдат с лейтенантом, из роты
последние,
Ничего нет вокруг, но велением памяти
Мины рвут тишину, лейтенант чертыхается,
И солдаты встают… Воздвигается памятью
памятник,
Там, где нету его, но стоять ему там
полагается.
А вокруг — мирный луг, а вокруг — жизнь
нормальная.
По Неве к Валааму плывет теплоход, полон
песнями.
Но сердца, словно компасов стрелки над
аномалией,
Бьют о ребра вовсю, будто тесно им,
тесно им.
А водителю Вите лет двадцать, не более,
Столько, сколько нам в армии было
когда-то.
Он включил себе радио, не идет с нами
в поле,
Наши слезы и песни ему не понятны.
Чтó ему это поле, — как нам Куликово,
не боле!..
Хлещет радио джазами над погостом
в костях и металле.
Мы с товарищем, с нашею славою,
с болями,
Эпопеей для Витьки, историей стали.
Только мы не история, мы в нее
не годимся, —
В нас ликуют и плачут железные годы,
И живут там солдаты, и хрипят:
«Не сдадимся!».
Делят хлеб и патроны у бездонного брода.
Делят хлеб и патроны, разгружают
понтоны.
Нам бы надо обидеться на курносого Витю,
Но у жизни есть горя и счастья законы,
Наше — нам, юность — юным, и мы
не в обиде.
И зачем ему, Витьке, за нас нашей памятью
мучиться.
Ах, зачем, все равно у него не получится.
Свищут птицы, горит земляника
на брустверах,
Полон Витька к истории благодарности и
уважения.
Он глядит на шоссе и на девочек в брючках,
без устали
Мчащих велосипеды вдоль древнего поля
сражения.
1961