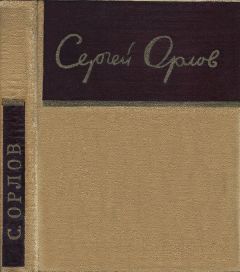1961
Дорогу делает не первый,
А тот, кто вслед пуститься смог.
Второй.
Не будь его, наверно,
На свете не было б дорог.
Ему трудней безмерно было —
Он был не гений, не пророк —
Решиться вдруг, собрать все силы,
И встать, и выйти за порог.
Какие в нем взрывались мысли!
И рушились в короткий миг
Устои все привычной жизни.
Он был прекрасен и велик.
Никто не стал, никто не станет
Второго славить никогда.
А он велик, как безымянен,
Он — хаты, села, города!
И первый лишь второго ради
Мог все снести, мог пасть в пути,
Чтоб только тот поднялся сзади,
Второй, чтобы за ним идти.
Я сам видал, как над снегами,
Когда глаза поднять невмочь,
Солдат вставал перед полками
И делал шаг тяжелый в ночь.
В настильной вьюге пулемета
Он взгляд кидал назад: «За мной!».
Второй поднялся.
Значит, рота
И вся Россия за спиной.
Я во второго больше верю.
Я первых чту. Но лишь второй
Решает в мире — а не первый, —
Не бог, не царь и не герой.
1962
«А кто такой Бартоломей Диас?…»
А кто такой Бартоломей Диас?
Что слышали вы нынче о Диасе?
И почему Диас дошел до нас,
Чем он прославился, вопрос неясен.
Он Африку когда-то обогнул,
Впервые обогнул ее по морю.
Сто раз тонул, но гнул ее и гнул
И обогнул, навек войдя в историю.
А кто такой Бартоломей Диас?
Я спрашивал, мне люди не ответили,
Одни сказали — он испанец, раз
Фамилия Диас.
Да, тьма на свете их.
Другие заявили — футболист.
Зачем тебе он? — вопрошали третьи.
Плыл в пене волн и солнц зеленый мыс,
Рвал ветер паруса в пятнадцатом столетье,
Жгла соль огнем бессонные глаза.
Как мир велик! Ни тронов в нем, ни клира,
Под килем и над мачтами гроза,
И солнце прогибает крышу мира.
А в Лиссабоне где-то день за днем
В порту взлетали флаги на флагштоках,
Гремели сходни, но никто о нем
Не вспоминал, не знал о нем, и только
Шальная девка, все забыв с тоски,
Обласканная как-то ненароком,
Не забывала жарких две руки
И знала, кто такой Диас, до срока.
А он о ней забыл в тот самый час,
Когда вернулся, королем обласкан,
И Лиссабон: «Да здравствует Диас!» —
Гремел, судьбе завидуя прекрасной.
(.............)
Прошли века, сегодня мир гремит.
От маршей тесно рациям в эфире.
Волна восторга, в радугах зенит,
Неслыханное совершилось в мире.
Мир шире стал, чем был для всех для нас.
…А кто такой Бартоломей Диас?
1962
«Далекое становится все ближе…»
Далекое становится все ближе,
Уже луна и та доступна нам.
Наука движется вперед и движет
Весь мир навстречу новым временам,
Когда близки любые станут дали
И суть вещей сокрытая ясна.
Но как измерить радость и печали,
Ее вершины и глубины дна.
Но как приблизить, одержав победу
Над бездной, разделяющей собой
Далекий, как созвездье Андромеды,
Мир человеческой души иной?
Расчеты — чушь! И формул тоже нету.
Есть лишь Гомер, Толстой, Бетховен,
Дант —
Искусства гениальные ракеты
И новые Ромео и Джульетта —
Любви соединяющий талант.
Они одни ничем не заменимы,
Без них на свете через все года
Немыслимы и неосуществимы
Гармония и счастье никогда.
1962
На клочке пергаментных забот
Я прочел значки полуустава —
Птица Сирин в уши там поет…
И тревожно мне донельзя стало.
Птица Сирин в уши там поет
Голосом далеких и любимых…
Посреди гиперборейских вод
Скалы, как ножи, встают над ними.
Птица Сирин в уши там поет
Голосом далеких и любимых…
На пять тысяч верст зеленый лед,
Солнца шар над ним в шерсти и дыме.
Птица Сирин в уши там поет
Голосом далеких и любимых…
Красный Марс во весь обзор встает
Со своими лунами пустыми.
Птица Сирин в уши там поет…
Гаснет парус, замерзают ноги.
Дюзы разрывают звездолет —
Птица Сирин встала на дороге.
1962
Сложились бабы по рублю,
Простые бабы, деревенские,
И пьют, я их не оскорблю —
Мол, пить занятие не женское.
У баб на то причина есть,
Особая, всемирно веская —
По радио промчалась весть,
И озарилась доля женская.
Вся вдруг до донышка видна
С поры далекой, незапамятной,
На целый белый свет одна,
Горя своим горючим пламенем.
Три полбутылки на столе
Плодовой, ягодной и выгодной,
Пьют бабы у себя в селе,
Румяные от водки выпитой.
Их не зовут домой мужья:
«Валюта, Валя, Валентина!».
Судьба не песня соловья,
Не все вернулись из Берлина.
Пахали бабы, жали хлеб,
Леса рубили, сенокóсили,
Век прожили в своем селе,
И слыхом не слыхав о космосе.
А над землей уж третий час,
Быстрей, чем шар земной наш кружится,
Вокруг него в который раз
Летит сестренка, дочь, подруженька!
Над щами, стиркой и страдой,
Над песнями, от слез солеными,
Летит над старыми законами,
Муж по которым — бог земной.
Гремит над всей землей эфир,
И марши, марши в честь них, марши,
В честь них, потрясших целый мир,
Обыкновенных женщин наших.
А здесь, в деревне, стол накрыт,
Пластинка кружится любимая.
И день, как колокол, гудит
Над придорожными рябинами.
1963
Косматый, рыжий, словно солнце, я
Оптимистичен до конца.
Душа моя — огнепоклонница,
Язычница из-под венца.
Чем дело кончилось с татарами?
Как мартом сарафан белен!
Вдрызг реактивными фанфарами
Исполосован небосклон.
Летят дюралевые капли
По небу синему, свистя.
Не так ли хлынет вниз, не так ли
Ливнь реактивного дождя?
Но вальсы, вальсы, только вальсы,
Кружа, в динамике дрожат.
Белеют на баранке пальцы,
Темнеет у шофера взгляд.
Весь голубой, как будто глобус,
В никелированной росе
Летит размашистый автобус
По пригородному шоссе.
Он в солнце, в первых лужах, в глине…
Творится на земле весна,
Как при Микуле и Добрыне,
Как при Владимире, красна.
И Лель сидит на косогоре
С кленовой дудочкой в зубах,
И витязи торчат в дозоре,
Щитами заслепясь в лучах.
Мосты над реками толпятся,
В бензинном дыме провода…
И ничего не может статься
С весной и Русью никогда.
1963
1
Нет расстоянья, нет пространства,
И городов далеких нет.
Нет гор, морей и ветра странствий,
Есть стюардесса в цвете лет.
Есть аэрон, бетон, динамик,
Орущий джазом в вашу честь,
Трап на пневматике, громами
Ночь потрясенная окрест.
Век, ты устроился неплохо
И позабыл, что час назад
Была перекладных эпоха,
Карет, фрегатов и баллад.
В цветной бетон и сталь закован,
Неоном ледяным омыт,
Исчислен, взвешен, зашифрован,
И крайне замкнут, и открыт.
Мой брат, мой враг, мой собеседник
Над пластикатовым столом
И чашечкой «эспрессо» бледным
В часу, неведомо каком,
В глуши неведомой вокзальной,
Откуда всё рукой подать:
Березы, ледники и пальмы, —
Что хочешь ты еще сказать?
И знаки мудрости газетной
Восходят над твоим лицом
С похожею на сказку сплетней,
Как за щекою с леденцом.
А синие глаза пустынны,
И прядь сиреневых волос,
Как дым весны и Хиросимы,
Ответ рождает и вопрос.
Век, я хочу с тобою спорить
О смысле злобы и добра,
Дышать зеленой солью моря,
Пить спирт из фляги у костра
И быть еще сентиментальным,
Как в дни фрегатов и карет,
Медлительным необычайно
Средь молний, стюардесс, ракет.
2
Чужие старые столицы
В рекламных ливнях слюдяных
Я вспоминаю, словно лица,
Пытаясь разобраться в них.
Стеклом, бетоном, сталью, светом
Разрублен мрак ночной и смят.
Зимой, весной, в разгаре лета
Они сверкают и горят.
Но есть в их праздничности броской
Тревога знобкая и грусть,
Которую понять не просто,
Но есть которая как груз.
А в чем она, не скажешь сразу:
В девчонках юных на углах
Иль в блеске бешеном показа
В самом уже запрятан страх?
А может быть, всё это вкупе
Заключено в том и другом.
Забудут, не наймут, не купят
Или поверят, но с трудом?
Гремят, ликуют и хохочут.
Надменны, праведны, грешны
И на исходе жаркой ночи
Сосредоточенно грустны
Чужие старые столицы
У синих рек и белых льдин,
Большие памятные лица
Держав, столетий и равнин.
1963