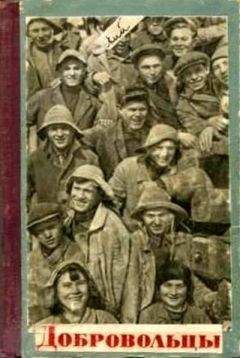Глава одиннадцатая
В СЕМЕЙНОМ ДОМЕ
Остались за дверью и слякоть и холод,
Сегодня мы гости семейного дома.
Однако для тех, кто бездомен и холост,
Женатый товарищ — отрезанный ломоть.
Кайтанов наш стал Колокольчик, Коляша,
Кайтанчик, Кайташа, Николенька, Ника.
На вышитых воротах русских рубашек
Цветут васильки и растет земляника.
Как счастлива Леля! В ней новая сила:
«Ребята, к апрелю мы ждем человечка».
Как счастлива Леля! Она ощутила,
Что в ней застучало второе сердечко.
«К нам утром Акишин зашел на минуту.
О радости я и ему рассказала,
А он не поздравил меня почему-то,
Стал мрачным, хотя улыбался сначала.
Не знаете, что с ним сейчас происходит?»
«Да просто, наверное, молодость бродит!»
«А он, говорят, уезжает?» — «Слыхали,
На Дальний Восток, в беспокойные дали.
Туда добровольцами едут девчата,
Зовут „хетагуровским“ это движенье.
Работы и трудностей край непочатый,
Ветров и морозов жестокое жженье.
Горячий призыв Хетагуровой Вали
Повсюду у нас в комсомоле услышан».
Тут Слава сказал: «Мы гадать не гадали,
Что вдруг „хетагуровкой“ станет Акишин».
Но Коля ему погрозил кулачищем:
«Не смейте Акишнна трогать, ребята!
Когда мы в товарище слабости ищем,
Выходит невесело и подловато».
И, вспомнив о роли хозяина дома,
Кайтанов за стол приказал нам садиться.
«Мы с Лелей сейчас ожидаем знакомых,
Немецких товарищей — Гуго и Фрица».
(За годы войны, испытаний и странствий
Утратилось воспоминанье живое,
Забыл рассказать вам я про иностранцев —
У нас на строительстве было их двое.)
Когда обещали — минута в минуту,
Явившись с коробкой конфет из Торгсина,
Они комплимент отпустили уюту,
Им все показалось у Лели красивым.
(Мы пели в те годы о Веддинге песни,
Гостей окружив ореолом скитальцев.
Нам только казались ненужными перстни
У них на лохматых веснушчатых пальцах.)
Радушно похлопав друг дружку по спинам.
Мы сели за стол, и пошли разговоры
О нашем метро, о подземке Берлина,
Про ихний Шварцвальд, про Кавказские горы.
Немецкие гости в беседе веселой
Коверкали слов наших русских немало,
И школьное знанье немецких глаголов
Немного, а все-таки нам помогало.
Немецкое слово и русское слово,
Как ветви деревьев, сплетались в тот вечер.
Еще неизвестно, где встретимся снова,
Какие нам жизнь приготовила встречи.
В Германию Гуго пора возвращаться,
Три года прошло, и контракт на исходе.
Найдет он покой и семейное счастье,
Ценимое очень в немецком народе.
Теперь у него появились деньжата.
Все в полном порядке, и можно жениться.
И вынул он карточку с краем зубчатым,
На ней улыбалась худая девица.
А Фриц беспрерывно курил сигареты.
Ему не увидеть любимых и близких.
Печальные вести приносят газеты:
Заочно зачислен он в смертные списки.
Газеты приносят жестокие вести:
Германия вся за тюремной решеткой.
Однако и Фриц говорит об отъезде
В коротких словах, как о деле решенном.
Куда он собрался?
Вопрос бесполезный.
Не жди, все равно не дождешься ответа.
В губах его сомкнутых, словно железных,
Исходит последним дымком сигарета.
На Фрица Уфимцев глядит добродушно,
Но строгая смелость во взгляде лучится.
Цвет глаз его, кажется, флот наш воздушный
Заимствовал, чтобы носить на петлицах.
И, может, поэтому видит он что-то,
Что нам, не летающим людям, не видно.
Он любит небесное званье пилота,
Хоть гордость скрывает (а то не солидно!).
Мы шутим, смеемся и спорим с запалом,
Как добрые гости семейного дома,
Но каждому в душу тревога запала.
И слышим мы отзвуки дальнего грома.
Глава двенадцатая
ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ
Вот и нету товарища Фрица,
Он уехал — не знаю куда.
Человек — перелетная птица.
И отныне уже навсегда
В нашу жизнь равноправно и грубо
Входит школа суровых разлук
С поцелуем в железные губы
И железным пожатием рук.
И Алеша Акишин уехал
С эшелоном на Дальний Восток.
В каждом сердце откликнулся эхом
Паровоза протяжный гудок.
Словно юности нашей частица
Оторвалась, ушла, уплыла,
Человек — перелетная птица,
Не удержишь, не свяжешь крыла.
Чемоданы, набитые туго,
На вокзал Белорусский понес
Озабоченный, сумрачный Гуго,
Бормоча себе что-то под нос:
По-немецки — насчет фатерланда
И что русские — славный народ.
Не грустили, — уехал, и ладно,
Без него нам хватает забот.
Впрочем, лишнего думать не нужно,
Хоть понять было трудно его,
Отдавал нам он скучную дружбу
И живое свое мастерство.
…Наши встречи недолги и редки:
Сто нагрузок — нелегкий удел.
В суматохе второй пятилетки
Слишком много у каждого дел.
Но уж так повелось в комсомоле,
Что огонь в комитете не гас,
Жизнью, правдой, судьбою самою
Оставалась бригада для нас.
И в студенческое общежитье
Вдруг Уфимцев явился ко мне.
Он участье в ночном чаепитье
Принял с курсом вторым наравне.
Мы читали стихи с завываньем,
Он внимательно выслушал всех,
Похвалил акростих без названья,
Вызывавший у девушек смех.
Он изрек: «Сочиняйте, творите,
Рифму не упускайте с пера.
Есть у вас что-нибудь о Мадриде?
Там сейчас боевая пора.
И дает вам заданье эпоха,
Чтоб придумал писучий народ
Песню-марш, вроде „Бандера Роха“, —
Понимаешь, за сердце берет!»
Слава смотрит на книжную полку:
Нет ли книжки испанской какой?
И новеллы старинные долго
Он листает тяжелой рукой,
Что-то ищет пытливо и жадно
И вздыхает по временам,
Рассуждая: «Писали занятно,
И красивые есть имена…»
По привычке старинного друга
Я пошел проводить до угла.
Вдоль бульвара последняя вьюга,
Словно снежный пропеллер, мела.
Сунув шапку в карман, как мальчишка,
Он небрежно сказал: «Прощевай,
Перечти ту испанскую книжку…» —
И вскочил в проходящий трамвай.
Что за странное предложенье?
Вновь новеллы читать не расчет.
По испанскому Возрожденью
В декабре еще сдал я зачет.
Я и так отстаю по программе,
Много лекций пропущено мной.
И, как чудо природы, с хвостами
Нарисован в газете стенной.
Я, под крышу семейного дома
Поспешив, как всегда, в выходной,
Был там встречен еще незнакомой,
Непривычною тишиной.
После шумного дня общежитий
Словно обухом бьет тишина.
«Что случилось, ребята, скажите?»
Коля мрачен, и Леля грустна.
Краток был их ответ и тревожен:
«Говорят, не бывает чудес.
Что случилось, ума не приложим, —
Дня четыре, как Славка исчез.
И четвертую ночь нам не спится,
Все мы ждем не дождемся звонка».
Человек — перелетная птица.
И планета у нас велика.
Глава тринадцатая
ГОД РОЖДЕНИЯ 37-й
Обещанный мальчик нашелся к апрелю.
Он первенец нашего поколенья.
Приехав из клиники через неделю,
В квартиру он хлопоты внес и волненья.
К Кайтановым гости несли поздравленья.
Хозяин — уже не мальчишка влюбленный,
Какие-то мучают парня сомненья,
И веки красны после ночи бессонной.
А Леле — худой, изменившейся сразу,
С прозрачными розовыми руками —
Все мнится: наполнен весь мир до отказа
Бациллами всякими и сквозняками.
Не сразу освоившись с новою ролью,
Она не смогла, не сумела заметить,
Что Колино сердце терзается болью,
Что трудно ему и тревожно на свете.
Вторую декаду туннели в прорыве.
Так много трудились, так мало прорыли.
Командовать сменой трудней, чем бригадой, —
Поди разберись в этом сложном хозяйстве.
Вдобавок Оглотков — зачем это надо? —
Кайтанова обвиняет в зазнайстве.
И всюду вредительство подозревает
Трагический блеск в его медленном взгляде, —
Он страшные заговоры раскрывает
По два раза в день чуть не в каждой бригаде.
А нынче придумал про Гуго и Фрица,
Что были агенты они капитала.
Извольте ответить за связь с заграницей;
Дружить комсомольцу с врагом не пристало.
Кайтанов отправился к дяде Сереже.
Тот грустно промолвил: «Скажу тебе честно,
Я верю вам всем, но Оглотков, быть может,
Такое узнал, что и нам неизвестно».
Не стоит рассказывать Леле об этом:
Кормящая мать, ей нельзя волноваться.
Эх, были бы рядом Акишин с поэтом
И Слава — за правду бы легче подраться.
Но нынче зачеты заели поэта,
И едет Акишин над синью Байкала,
Как принято — в волны швыряет монеты,
Ныряет в туннели, пробитые в скалах.
О Славе ни слуху ни духу; как прежде,
Гадают товарищи, сбитые с толку.
Лишь Леля в своей материнской надежде
Твердит: «Ничего, человек не иголка».
И вправду надежда — великая сила,
В ней твердость мужская и девичья тайна,
Она и меня для борьбы воскресила,
Когда весь народ проходил испытанье.
С надеждою и расстояния ближе,
И если бы дать ей глаза человечьи,
Она бы увидела утро в Париже.
Наверное, утро. А может быть, вечер.
Быть может, в то утро иль вечер весенний
Прохладною набережной Аустерлица
Идет человек. Отражаются в Сене
Глаза его синие, словно петлицы
Советских пилотов. Однако, пожалуй,
Такое сравнение неуместно.
Идет он вразвалку, размашистый малый,
Простой человек, никому не известный.
Пиджак на прохожем сидит мешковато,
И плечи пошире, чем требует мода,
Но это не хитрость портного, не вата, —
Таким уж его сотворила природа.
Он входит в, метро и с особым вниманьем
На кафель глядит, на прожилки в бетоне.
Он едет на станцию с гордым названьем
«Бастилия»… Странно, что курят в вагоне.
Плас-де-ля-Конкорд. Громогласный и гордый,
Здесь шел Маяковский могучей походкой.
А вот интересно, какие рекорды
Французы поставили при проходке?
В толпе по лицу его робко скользнуло
Живое тепло неслучайного взгляда.
Легко долетело средь шума и гула
К нему обращенье: «Салют, камарадо!»
На юг самолет отправляется скоро.
Поедет он с чехом, мадьяром, норвежцем.
Они называют его волонтером,
Суровые люди с Испанией в сердце.
Свобода не частное дело испанцев!
Фашизм наступает на мир и народы.
Спешат волонтеры в Мадрид, чтоб сражаться
За правое дело, под знамя свободы.
И только для нас остается загадкой
Уфимцев с поступком своим величавым.
И Коля, склоняясь над детской кроваткой,
Решает: «Мальца назовем Вячеславом!»
И теща не против, и Леля согласна,
И Слава Кайтанов, единственный в мире,
Из кружев своих заявил громогласно,
Что он самый главный в их тесной квартире.
Отец его стал молчаливым, суровым.
Он мысли готовит к тяжелому бою,
Пожалуй, пора ко всему быть готовым.
Будь мужествен, что б ни случилось с тобою!
Но где же наш Славка, красавец проходчик,
Отчаянный аэроклубовский летчик?
Ответа ищу я в завещанной книге,
Страницы листаю в тревоге и жажде.
И вдруг замечаю, что «Карлос Родригес»
На сотой странице подчеркнуто дважды.
Мне к сердцу прихлынула жгучая зависть.
И я не страницы, а пламя листаю
И вижу, как, в знойное небо врезаясь,
Летит истребитель на «юнкерсов» стаю.
Настала пора! И мое поколенье
За мир и свободу вступает в сраженье.