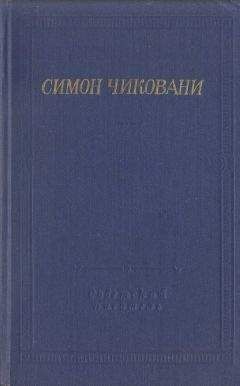И вместе с тем «артистизм», «внутренняя артистичность» были чуть ли не самыми высокими эпитетами в его словаре.
Симон Чиковани умел как-то удивительно смеяться. Его почти детский смех был особенно привлекателен потому, что так смеялся не беззаботный, простодушный, а много видевший на своем веку, переживший большие внутренние потрясения, мудрый в полном смысле этого слова человек.
Еще живут и здравствуют люди, которые хорошо помнят, как смеялись некоторые их современники-поэты. Они помнят внезапную вспышку света на лице Галактиона Табидзе, влажные от смеха глаза Георгия Леонидзе, гулкий, сотрясающий грудную клетку смех Пастернака, скрытые огоньки в зрачках Николая Заболоцкого…
Думается, что этот смех, способность так смеяться помогли им многое пережить. Не только потому, что они сохранили в себе способность смеяться над смешным, нелепым, смехотворным и тем самым ограждать себя от всего этого. Но и потому, что они умели видеть в жизни то, что является источником радости, веселья, бодрости духа. Потому что это был чаще всего смех восторга.
Симон Чиковани, например, мог смеяться до слез, когда ему что-нибудь по-настоящему нравилось — острая мысль, неожиданное сплетение слов. Он долго смеялся и тогда, когда кому-нибудь удавалось его переспорить.
Симон Чиковани был из тех счастливых людей, которые умеют радоваться простым радостям жизни. И он умел зажигать окружающих, обращая их внимание на эти важные мелочи жизни, учил находить в них радость.
Предельная простота в обращении с людьми естественно сочеталась у него с этими качествами.
Кайсын Кулиев писал: «Симон Чиковани был мудр, эмоционален».
Сказано просто. Как будто это одно и то же. Так оно и есть! У настоящих поэтов мудрость и эмоциональность — нерасторжимые качества.
Перефразируя известное высказывание Пушкина о Баратынском, Симон Чиковани писал о Николозе Бараташвили, что тот свои мысли смог превратить в чувства. Это классическая формула, которой могли бы руководствоваться многие современные литераторы, ратующие за философичность или интеллектуальность поэзии. Потому что там, где нет следов настоящей мысли, напрасно искать интеллектуальное начало. А там, где энергия мышления не перешла в энергию чувства, нет самой поэзии.
У Симона Чиковани душа была тонкая, чувствительная.
Но он не сторонился жизни. Как и многие большие советские поэты, он всегда находился в самой гуще событий.
Каждый раз он находил свой ключ к самым разнообразным явлениям и раскрывал то, что другим не удавалось увидеть и понять.
Так он относился и к духовным ценностям современности.
Симон Чиковани видел и понимал в явлениях искусства самое сокровенное — он понимал код культуры, всем своим существом ощущал движение эстетических идей, перипетии этого движения. Поэтому он мог различить их скрытые переплетения, взаимообусловленность, контрастность, альтернативность, и в этом он был неподражаем.
Судьба не очень баловала этого человека, и он был не из тех поэтов, которые сразу добиваются признания и потом всю жизнь плывут на теплых волнах читательской любви.
Однако мир образов и идей Чиковани таков, что он все глубже втягивает в себя человека, однажды прикоснувшегося к нему.
«Художник, подобно дереву, растет всегда — до самой смерти», — пишет он в автобиографии.[17]
Хочется развить эту мысль: Симон Чиковани из тех поэтов редкой судьбы, значение которых растет и после смерти.
Приятно сознавать и верить, что многие, очень многие поколения людей найдут источник особой радости в этом мире — в прекрасном, немеркнущем мире Симона Чиковани.
Г. Асатиани †
Г. Маргвелашвили
1. Под дождем. Перевод С. Спасского
Мы двигались к югу от гор.
Черный ворох
туч с запада вырвался.
Неба простор
обрушен.
Он в стон превратился и в шорох.
И гулы дождя разбрелись между гор.
Мы замерли.
Мы напряглись, будто стебли.
Мы — стрелы травы на полях.
Далеки
от крова дерев.
Струны бури окрепли
под ветром.
Звон капель — как песня тоски.
Нас бьют эти тяжкие слезы.
И тучи,
сгустившись, нисходят с высот.
Но молчи.
Дай руку и вслушайся.
Будто тягучий
из далей доносится плач кяманчи.
Мокры эти струны.
И что тут вначале?
Дождем ли развернута грусть.
Или речь
дождя —
порожденье шуршащей печали.
Мы вымокли.
Как мне тебя уберечь?
Дорога вся в шелестах.
Небо сырое
внедряется в душу.
Нет, мы не горды.
Хрупка ты
в сравненье с дождем и горою.
Вся вздрагиваешь от холодной воды.
Поля принимают пустыми глазами
мрак облачный.
О, если б дождь, уходя,
тоску мою взял!
Кто-нибудь за горами,
наверно, заждался такого дождя.
А он словно плащ по полям.
Прогони же,
день, эту унылую непогодь с круч.
Вот ветки и те нагибаются ниже,
мечась: «Мы хотим быть сухими, как луч».
И капли колотят листов оперенье,
алмазами прыгают.
Где мы идем?
Мы слепнем.
Что наше бессильное зренье?
Как спрятаться телу под этим дождем?
Нам нужно стать шелестом листьев.
Родная,
спаси меня!
Грозно ненастье.
Но там
вскрывается небо, присоединяя
свою синеву к возбужденным листам.
И нас утешает дорога.
И капли
стекают с одежды.
Скорее бы вновь
просохнуть.
Мы в поле от бури ослабли,
но не ослабела от бури любовь.
Прямым кипарисом воздвигнуто тело
твое.
Оно движется.
Грузную мощь
пространства и дождь оно выдержит
смело,
но я виноват, что завел тебя в дождь.
Приблизься ко мне.
Обними.
Дождь влачится
еще.
Только совесть со мною и ты.
Ты вымокла вся до последней частицы,
до атомов нежности и чистоты.
О, если б, насытясь ненастьем, я бездны
исследовать бросил…
Мы шли вдоль полей.
И шли облака по дорогам небесным.
Шел пар от пылающей кожи твоей.
И влажное платье к ногам прилипало.
А день умирал у твоих каблуков.
И небо просило прощенья.
Устало
отары брюхатых влеклись облаков.
Лишь мы еще в мире мокры.
И не скоро
мы станем сухими, как были вчера.
Нам дождь, будто ветер, пронизывал поры.
Просторы стонали.
Чернела гора.
2. В поисках тени. Перевод Е. Евтушенко
Зачем ты так? Зачем ты это сделала?
В Манглиси ты, как дерево, росла,
ты тень свою дарила мне, как дерево,
и тень свою с собою унесла.
В твоей тени я всё тебе выкладывал.
Свои надежды, молод и упрям,
пристраивал, как лозы виноградные,
к высоким и раскидистым ветвям.
Но эти ветви были только маскою,
и вот расстались, не простившись, мы.
С тобой зима была такая майская,
а нынче май — как пасынок зимы.
Я крепостью на скалы и расселины
гляжу над одичалой крутизной,
и, как знамена, пулями простреленные,
мои раздумья реют надо мной.
Мрачнеют башни, в облака одетые,
и бродит ворон, черный, как монах,
и твое имя, от тебя отдельное,
порхает в развалившихся стенах.
Мне чудится, что ржанье где-то слышится,
и я навстречу ржанию иду,
иду, и горы в сумерках колышутся,
как бы горбы верблюжьи на ходу.
Исполненный величья и ничтожества,
несчастный и счастливый вместе с тем,
внизу — я вижу — город суматошится…
Кому ты даришь в нем сегодня тень?
А ты всё дальше, за хребты последние.
Остановись! На север не спеши!
Любовь моя такая малолетняя,
но ведь она — росток моей души.
Душа кричит и плачет, обезверенная.
Себя я на плечах своих тащу,
грущу, и сам, как тень твоя потерянная,
потерянную тень свою ищу.
Я по тебе тоскую, как по юности.
Тебя вернуть, как юность, я хочу.
Сначала я кричу, потом пою уже,
но не пойму — пою или кричу.
Взбираюсь на вершину, мхом поросшую.
Печально птицы слушают меня…
Но ты — ты слышишь песнь мою, похожую
на ржанье одинокого коня?!
3. Описание весны и быта. Перевод П. Антокольского