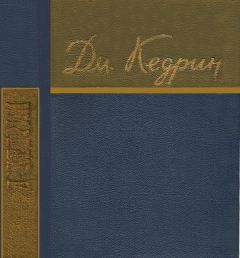1935
[2]
Что не пройдет — останется,
А что пройдет — забудется…
Сидит Алена-старица
В Москве на Вшивой улице.
Зипун, простоволосая,
На голову набросила,
А ноги в кровь изрезаны
Тяжелыми железами.
Бегут ребята — дразнятся,
Кипит в застенке варево…
Покажут ноне разницам
Острастку судьи царевы!
Расспросят, в землю метлами,
Брады уставя долгие,
Как соколы залетные
Гуляли Доном, Волгою,
Как под Азовом ладили
Челны с высоким застругом,
Как шарили да грабили
Торговый город Астрахань.
Палач-собака скалится,
Лиса-приказный хмурится.
Сидит Алена-старица
В Москве на Вшивой улице.
Судья в кафтане до полу
В лицо ей светит свечечкой:
— Немало, ведьма, попила
Ты крови человеческой,
Покуда плахе-матушке
Челом ты не ударила.
Пытают в раз остаточный
Бояре государевы:
Обедню черту правила ль?
Сквозь сито землю сеяла ль?
В погибель роду цареву,
Здоровью Алексееву?
— Смолой приправлен жидкою,
Мне солон царский хлебушек!
А ты, боярин, пыткою
Стращал бы красных девушек.
Хотите — жгите заживо,
А я царя не сглазила:
Мне жребий выпал важивать
Полки Степана Разина,
В моих ушах без умолку
Поет стрела татарская.
Те два полка,
Что два волка,
Дружину грызли царскую!
Нам, смердам, двери заперты
Повсюду, кроме паперти.
На паперти слепцы поют,
Попросишь —
Грош купцы дают.
Судьба меня возвысила!
Я бар, что семя, щелкала!
Ходила в кике бисерной,
В зеленой кофте шелковой.
На Волге — что оконницы,
Пруды с зеленой ряскою.
В них раки нынче кормятся
Свежинкою дворянскою!
Боярский суд не жаловал
Ни старого,
Ни малого,
Так вас любить,
Так вас жалеть —
Себя губить,
Душе болеть!
Горят огни-пожарища,
Дымы кругом постелены.
Мои друзья-товарищи
Порубаны, постреляны.
Им глазыньки до донышка
Ночной стервятник выклевал,
Их греет волчье солнышко,
Они к нему привыкнули.
И мне топор, знать, выточен
У ката в башне пыточной,
Да помни, дьяк, — неровен час:
Сегодня — нас,
А завтра — вас!
Мне б после смерти галкой стать,
Летать под низкой тучею,
Ночей не спать,
Царя пугать
Бедою неминучею!
Смола в застенке варится,
Опарой всходит сдобною,
Ведут Алену-старицу
Стрельцы на место Лобное.
В Зарядье над осокою
Блестит зарница дальняя.
Горит звезда высокая…
Терпи, многострадальная!
А тучи,
Словно лошади,
Бегут над Красной площадью.
Все звери спят,
Все птицы спят,
Одни дьяки
Людей казнят.
1939
Как побил государь
Золотую Орду под Казанью,
Указал на подворье свое
Приходить мастерам.
И велел благодетель, —
Гласит летописца сказанье, —
В память оной победы
Да выстроят каменный храм!
И к нему привели
Флорентийцев
И немцев,
И прочих
Иноземных мужей,
Пивших чару вина в один дых.
И пришли к нему двое
Безвестных владимирских зодчих,
Двое русских строителей,
Статных,
Босых,
Молодых.
Лился свет в слюдяное оконце.
Был дух вельми спертый.
Изразцовая печка.
Божница.
Угар и жара.
И в посконных рубахах
Перед Иоанном Четвертым,
Крепко за руки взявшись,
Стояли сии мастера.
— Смерды!
Можете ль церкву сложить
Иноземных пригожей,
Чтоб была благолепней
Заморских церквей, говорю? —
И, тряхнув волосами,
Ответили зодчие:
— Можем!
Прикажи, государь! —
И ударились в ноги царю.
Государь приказал.
И в субботу на вербной неделе,
Покрестясь на восход,
Ремешками схватив волоса,
Государевы зодчие
Фартуки наспех надели,
На широких плечах
Кирпичи понесли на леса.
Мастера выплетали
Узоры из каменных кружев,
Выводили столбы
И, работой своею горды,
Купол золотом жгли,
Кровли крыли лазурью снаружи
И в свинцовые рамы
Вставляли чешуйки слюды.
И уже потянулись
Стрельчатые башенки кверху,
Переходы,
Балкончики,
Луковки да купола.
И дивились ученые люди,
Занé эта церковь
Краше вилл италийских
И пагод индийских была!
Был диковинный храм
Богомазами весь размалеван.
В алтаре и при входах,
И в царском притворе самом
Живописной артелью
Монаха Андрея Рублева
Изукрашен зело
Византийским суровым письмом…
А в ногах у постройки
Торговая площадь жужжала,
Таровато кричали купцам:
— Покажи, чем живешь! —
Ночью подлый народ
До креста пропивался в кружалах,
А утрами истошно вопил,
Становясь на правеж.
Тать, засеченный плетью,
У плахи лежал бездыханно,
Прямо в небо уставя
Очесок седой бороды.
И в московской неволе
Томились татарские ханы,
Посланцы Золотой,
Переметчики Черной Орды.
А над всем этим срамом
Та церковь была —
Как невеста!
И с рогожкой своей,
С бирюзовым колечком во рту, —
Непотребная девка
Стояла у Лобного места
И, дивясь,
Как на сказку,
Глядела на ту красоту…
А как храм освятили,
То с посохом,
В шапке монашьей,
Обошел его царь
От подвалов и служб
До креста.
И, окинувши взором
Его узорчатые башни,
— Лепота! — молвил царь.
И ответили все: — Лепота!
И спросил благодетель:
— А можете ль сделать пригожей,
Благолепнее этого храма
Другой, говорю? —
И, тряхнув волосами,
Ответили зодчие:
— Можем!
Прикажи, государь! —
И ударились в ноги царю.
И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих,
Чтоб в земле его
Церковь
Стояла одна такова,
Чтобы в Суздальских землях,
И в землях Рязанских
И прочих
Не поставили лучшего храма,
Чем храм Покрова!
Соколиные очи
Кололи им шилом железным,
Дабы белого света
Увидеть они не могли.
Их клеймили клеймом,
Их секли батогами, болезных,
И кидали их,
Темных,
На стылое лоно земли.
И в Обжорном ряду,
Там, где заваль кабацкая пела,
Где сивухой разило,
Где было от пару темно,
Где кричали дьяки:
«Государево слово и дело!»
Мастера Христа ради
Просили на хлеб и вино.
И стояла их церковь
Такая,
Что словно приснилась.
И звонила она,
Будто их отпевала навзрыд.
И запретную песню
Про страшную царскую милость
Пели в тайных местах
На широкой Руси
Гусляры!
1938
Царь Дакии,
Господень бич,
Атилла, —
Предшественник Железного Хромца,
Рожденного седым,
С кровавым сгустком
В ладони детской, —
Поводырь убийц,
Кормивший смертью с острия меча
Растерзанный и падший мир,
Работник,
Оравший твердь копьем,
Дикарь,
С петель сорвавший дверь Европы, —
Был уродец.
Большеголовый,
Щуплый, как дитя,
Он походил на карлика —
И копоть
Изрубленной мечами смуглоты
На шишковатом лбу его лежала.
Жег взгляд его, как греческий огонь,
Рыжели волосы его, как ворох
Изломанных орлиных перьев.
Мир
В его ладони детской был, как птица,
Как воробей,
Которого вольна,
Играя, задушить рука ребенка.
Водоворот его орды крутил
Тьму человечьих щеп,
Всю сволочь мира:
Германец — увалень,
Проныра — беглый раб,
Грек — ренегат, порочный и лукавый,
Косой монгол и вороватый скиф
Кладь громоздили на ее телеги.
Костры шипели.
Женщины бранились.
В навозе дети пачкали зады.
Ослы рыдали.
На горбах верблюжьих,
Бродя, скисало в бурдюках вино.
Косматые лошадки в тороках
Едва тащили, оступаясь, всю
Монастырей разграбленную святость.
Вонючий мул в оческах гривы нес
Бесценные закладки папских библий,
И по пути колол ему бока
Украденным клейнодом —
Царским скиптром
Хромой дикарь,
Свою дурную хворь
Одетым в рубища патрицианкам
Даривший снисходительно…
Орда
Шла в золоте,
На кладах почивала!
Один Атилла голову во сне
Покоил на простой луке седельной.
Был целомудр,
Пил только воду,
Ел
Отвар ячменный в деревянной чаше.
Он лишь один — диковинный урод —
Не понимал, как хмель врачует сердце,
Как мучит женская любовь,
Как страсть
Сухим морозом тело сотрясает.
Косматый волхв славянский говорил,
Что, глядя в зеркало меча,
Атилла
Провидит будущее,
Тайный смысл
Безмерного течения на запад
Азийских толп…
И впрямь, Атилла знал
Судьбу свою — водителя народов.
Зажавший плоть в железном кулаке,
В поту ходивший с лейкою кровавой
Над пажитью костей и черепов,
Садовник бед, он жил для урожая,
Собрать который внукам суждено!
Кто знает — где Атилла повстречал
Прелестную парфянскую царевну?
Неведомо!
Кто знает — какова
Она была?
Бог весть!
Но посетило Атиллу чувство,
И свила любовь
Свое гнездо в его дремучем сердце.
В бревенчатом дубовом терему
Играли свадьбу.
На столах дубовых
Дымилась снедь.
Дубовых скамей ряд
Под грузом ляжек каменных ломился.
Пыланьем факелов,
Мерцаньем плошек
Был озарен тот сумрачный чертог.
Свет ударял в сарматские щиты,
Блуждал в мечах, перекрестивших стены,
Лизал ножи…
Кабанья голова,
На пир ощерясь мертвыми клыками,
Венчала стол,
И голуби в меду
Дразнили нежностью неизреченной.
Уже скамейки рушились,
Уже
Ребрастый пес,
Пинаемый ногами,
Лизал блевоту с деревянных ртов
Давно бесчувственных, как бревна, пьяниц.
Сброд пировал.
Тут колотил шута
Воловьей костью варвар низколобый,
Там хохотал, зажмурив очи, гунн,
Багроволикий и рыжебородый,
Блаженно запустивший пятерню
В копну волос свалявшихся и вшивых.
Звучала брань.
Гудели днища бубнов,
Стонали флейты.
Детским альтом пел
Седой кастрат, бежавший из капеллы.
И длился пир…
А над бесчинством пира,
Над дикой свадьбой,
Очумев в дыму,
Меж закопченных стен чертога
Летал, на цепь посаженный, орел —
Полуслепой, встревоженный, тяжелый.
Он факелы горящие сшибал
Отяжелевшими в плену крылами,
И в лужах гасли уголья, шипя,
И бражников огарки обжигали,
И сброд рычал,
И тень орлиных крыл,
Как тень беды, носилась по чертогу!..
Средь буйства сборища
На грубом троне
Звездой сиял чудовищный жених.
Впервые в жизни сбросив плащ
верблюжий
С широких плеч солдата, — он надел
И бронзовые серьги, и железный
Венец царя.
Впервые в жизни он
У смуглой кисти застегнул широкий
Серебряный браслет,
И в первый раз
Застежек золоченые жуки
Его хитон пурпуровый пятнали.
Он кубками вливал в себя вино
И мясо жирное терзал руками.
Был потен лоб его.
С блестящих губ
Вдоль подбородка
Жир бараний стылый,
Белея, тек на бороду его.
Как у совы полночной,
Округлились
Его, вином налитые, глаза.
Его икота била.
Молотками
Гвоздил его железные виски
Всесильный хмель.
В текучих смерчах — черных
И пламенных —
Плыл перед ним чертог.
Сквозь черноту и пламя проступали
В глазах подобья шаткие вещей
И рушились в бездонные провалы!
Хмель клал его плашмя,
Хмель наливал
Железом руки,
Темнотой — глазницы,
Но с каменным упрямством дикаря,
Которым он создал себя,
Которым
В долгих битвах изводил врагов,
Дикарь борол и в этом ратоборстве:
Поверженный,
Он поднимался вновь,
Пил, хохотал, и ел, и сквернословил!
Так веселился он.
Казалось, весь
Он хочет выплеснуть себя, как чашу.
Казалось, что единым духом — всю
Он хочет выпить жизнь свою.
Казалось,
Всю мощь души,
Всю тела чистоту
Атилла хочет расточить в разгуле!
Когда ж, шатаясь,
Весь побагровев,
Весь потрясаем диким вожделеньем,
Ступил Атилла на ночной порог
Невесты сокровенного покоя, —
Не кончив песни, замолчал кастрат,
Утихли бубны,
Смолкли крики пира,
И тот порог посыпали пшеном…
Любовь!
Ты дверь, куда мы все стучим,
Путь в то гнездо, где девять кратких лун
Мы, прислонив колени к подбородку,
Блаженно ощущаем бытие,
Еще не отягченное сознаньем!..
Ночь шла.
Как вдруг
Из брачного чертога
К пирующим донесся женский вопль…
Валя столы,
Гудя пчелиным роем,
Толпою свадьба ринулась туда,
Взломала дверь и замерла у входа;
Мерцал ночник.
У ложа на ковре,
Закинув голову, лежал Атилла.
Он умирал.
Икая и хрипя,
Он скреб ковер и поводил ногами,
Как бы отталкивая смерть.
Зрачки остекленевшие свои уставя
На ком-то зримом одному ему, —
Он коченел,
Мертвел и ужасался.
И если бы все полчища его,
Звеня мечами, кинулись на помощь
К нему,
И плотно б сдвинули щиты,
И копьями б его загородили, —
Раздвинув копья,
Разведя щиты,
Прошел бы среди них его противник,
За шиворот поднял бы дикаря,
Поставил бы на страшный поединок
И поборол бы вновь…
Так он лежал,
Весь расточенный,
Весь опустошенный,
И двигал шеей,
Как бы удивлен,
Что руки смерти
Крепче рук Атиллы.
Так сердца взрывчатая полнота
Разорвала воловью оболочку —
И он погиб,
И женщина была
В его пути тем камнем, о который
Споткнулась жизнь его на всем скаку!
Мерцал ночник,
И девушка в углу,
Стуча зубами,
Молча содрогалась.
Как спирт и сахар, тек в окно рассвет,
Кричал петух.
И выпитая чаша
У ног вождя валялась на полу,
И сам он был — как выпитая чаша.
Тогда была отведена река,
Кремнистое и гальчатое русло
Обнажено лопатами, —
И в нем
Была рабами вырыта могила.
Волы в ярмах, украшенных цветами,
Торжественно везли один в другом —
Гроб золотой, серебряный и медный.
И в третьем —
Самом маленьком гробу —
Уродливый,
Немой,
Большеголовый
Покоился невиданный мертвец.
Сыграли тризну,
И вождя зарыли.
Разравнивая холм,
Над ним прошли
Бесчисленные полчища азийцев,
Реку вернули в прежнее русло,
Рабов зарезали
И скрылись в степи.
И черная
Заплаканная ночь,
В оправе грубых северных созвездий,
Осела крепким
Угольным пластом,
Крылом совы
Простерлась над могилой.
1933–1940