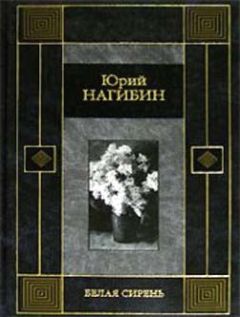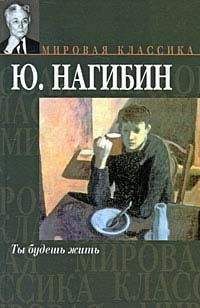— Два-три дня!.. Вы что — оглохли?
— Я все слышала. — Она старательно смазывает ему руку. — Вы подпишете эту бумагу, а я позабочусь, чтоб ей дали ход.
Старков резко отстранился.
— Не лезьте не в свое дело! Никакой бумаги я не подпишу. Я сто раз говорил! — Он схватил с табурета бумагу и разорвал в клочья. — Уходите!.. Слышите?..
— Успокойтесь!.. Умоляю вас!
Старков схватил ее за плечи, подволок к двери и что было силы пнул ногой в трухлявое дерево. Дверь сразу же открылась. Старков выпихнул Марию Александровну прямо в руки надзирателя.
— Дайте хоть забинтовать! — беспомощно взывала посетительница.
— Вон!.. Вон!.. — кричал Старков.
Надзиратель поспешно захлопнул дверь. Некоторое время из коридора доносилась какая-то шебуршня, потом все стихло.
Старков взял бинт и попытался перевязать рану, но одной рукой это не удавалось.
Вошли надзиратель и санитар. Первый собрал в совок клочья бумаги, использованные бинты, взял сумку Марии Александровны и вышел.
— Ну что, оглоед, доволен? — с ненавистью сказал санитар. — Осрамил знатную даму…
— Заткнись! — перебил Старков. — Делай свое дело и проваливай.
Санитар посмотрел на него белыми глазами и принялся бинтовать плечо резкими, злыми движениями.
При всей выдержке к боли Старкова передернуло.
— Осторожнее, дубина! У тебя руки из задницы растут.
— Больно нежный! Людей в клочья рвать — это можно. А самого пальцем не тронь.
— Каких это людей я в клочья рвал?
— А Великого князя, царствие ему небесное! Или забыл уже? — В голосе санитара чувствовались слезы.
— Нешто он человек… Тиран, кровоядец. Я его за всех нас, за народ приговорил.
— Сам ты кровоядец. Такого человека погубил. Я с ним на войне был… — Санитар всхлипнул. Орел, герой, а как о нижнем чине думал!..
— На водку не жалел? — усмехнулся Старков. — Эх ты, рабья душа!
— Я не рабья душа… Это ты рабья душа, завистник, хам, убийца!.. А еще о народе талдычет!.. Такие, как ты, самая зараза для народа!..
Сильный удар в челюсть оборвал бешеную брань. Санитар отлетел к стене, ударился спиной и сполз на пол. Старков схватил парашу и нахлобучил ему на голову.
В камеру ворвались надзиратель и два служителя. Они освободили санитара, а Старкова повалили и связали.
Подоспел начальник тюрьмы.
— В карцер его!..
Старкова поставили на ноги, накинули на плечи шинель, на голову нахлобучили шапку. Подтолкнули к двери. Он уже не сопротивлялся. Овладев собой, он с ироническим спокойствием подчинялся тюремщикам…
…Старкова втолкнули в карцер. Дверь с лязгом захлопнулась. Темно. Свет едва проникает сквозь зарешеченное окошко высоко под потолком. Старков сел на деревянные нары.
— Жестковато, — произнес с усмешкой. — Но для последней ночи сойдет…
Он лег. Смотрит в потолочную темь. Закрывает глаза…
…Среди ночи узник проснулся от шума отпираемой двери. Он приподнялся и сел на койке.
Свет полной луны, проникая в крошечное подпотолочное окошечко, падал на дверь, и когда она наконец поддалась, впустив в камеру две темные фигуры, узник мгновенно узнал в них санитара и надзирателя. Последний держался чуть сзади.
Старков соскочил с койки.
— Бить пришли?
Он озирался, выискивая, чем бы защититься, но не было ни табурета, ни стула, и даже парашу — испытанное оружие — заменяла мятая жестянка из-под машинного масла.
Санитар приблизился, по пути прихватив шинель Старкова.
— Втемную — падлы? — орал Старков. — Не возьмете, суки!..
— Тише!.. Тише!.. — свистящим шепотом отозвался санитар. — Стражу разбудишь. Мы за тобой. Тикай, парень, отсюда!
— Знаю я вас! — надрывался Старков. — Сучье племя!
— Заткнись, — грубо сказал тюремщик. — Мы за тебя жизнью рискуем.
— Прости меня, Митяй, — сказал санитар. — Прости за давешнее. Дурак я был. Прости, брат.
Тут только дошло до Старкова, что эти люди устраивают ему побег.
— Тошно мне от царских ищеек бегать, — пробормотал он с ноткой пробуждающегося гонора.
— Ты там нужнее, — горячо дыша ему в лицо, убеждал санитар. — Сколько еще недобитков кровь народную сосут. Уходи, Митяй, уходи, наш мститель!
Он накинул на Старкова шинель, все трое покинули камеру и двинулись гуськом по темным переходам, едва подсвеченным луной из узеньких окошек.
Потом они вошли в сырой, вовсе темный тоннель, в конце которого брезжил просвет.
— Ступай дальше один, — шепнул санитар Старкову. — Нам туда нельзя. Иди все прямо и прямо, тоннель тебя сам приведет.
Он обнял Старкова и скрылся.
Старков пошел вперед, наступая в какие-то лужи, спотыкаясь о выбоины, коряги. Тоннель отчетливо тянул вверх. Затем он уперся в дощатую преграду. Вез труда оторвав изгнившие доски, Старков вырвался из земляного плена в предрассветную ясность утра.
Он стоял на помосте виселицы, перед ним чуть раскачивалась веревочная петля, за которую держался палач. А по сторонам недвижимо, словно высеченные из камня, высились фигуры прокурора, начальника тюрьмы, врача, священника, стражей…
…Старков вскрикнул и проснулся.
Карцер. Утро глядело в мрачную щель голубизной высокого окошка. Он не сразу вспомнил, где находится. Оглядывает свои «хоромы», и к нему возвращается память о вчерашнем дне и о поманившем его свободой сне.
Он тяжело поднялся. Поискал умыться и нечего не нашел.
Постоял, раздумывая, и, встряхнувшись, стал делать гимнастику. Но после двух-трех вздохов и выдохов растерянно остановился, вспомнив и последнее: сегодня конец.
— Зачем?.. — произнес он вслух и сам себе ответил: — Перед смертью не надышишься.
И с этой шуткой висельника вернулась к нему его невероятная выдержка. Он продолжал упражнения: приседания, повороты, бег на месте.
Он еще «не добежал», когда за ним пришли: начальник тюрьмы, врач, надзиратель карцера и двое низших служителей.
— Уже? — спросил Старков. — А мне дадут зайти в камеру?
— Зачем? — спросил начальник тюрьмы.
— Побриться. Помыться. Я хочу быть в порядке.
— Вы были бы в порядке, если бы не учинили скандал. Такие выходки расцениваются как бунт.
— Дайте руку, — сказал врач.
Он посчитал пульс.
— Вы сделали всю гимнастику?
— Да. Успел.
— Тогда нормально.
Он вынул стетоскоп и послушал сердце арестанта.
— Ну и насос у вас! — сказал восхищенно.
— Никогда не жаловался.
— Что вчера случилось? Сдали нервы?
— С нервами у меня все в порядке. Но я не допускаю ни тюремного, ни вельможного хамства.
— Но-но, полегче! — одернул его начальник тюрьмы.
— Вы уже ничего не можете мне сделать, — насмешливо сказал Старков. — Кончилась ваша власть.
— Ничуть. Лишу прогулок.
— Каких еще прогулок?
— С сегодняшнего дня вам разрешена прогулка…
…Старков и двое тюремщиков идут по внутреннему двору тюрьмы. Он впереди, они на полшага позади.
Старков идет очень медленно, приостанавливается, задирает голову и ловит лицом солнечный свет чистого морозного утра. Тюремщики тоже останавливаются и терпеливо ждут, когда арестант последует дальше.
Старков увидел свежий конский навоз и над ним стайку суетливых воробьев.
— Воробьи, — говорит он, оглянувшись на тюремщиков.
Пошли дальше. Он приметил куст рябины, сохранивший красные прокаленные морозом ягоды.
— Рябина, — сказал он неуверенно.
— Послушать тебя, так ты долгий срок мотаешь, — сказал более общительный из тюремщиков. — Давно ли тут? А уж весь Божий мир позабыл…
— А я его раньше не помнил, — тихо проговорил Старков…
…Свежий, раскрасневшийся после прогулки, Старков возвращается в свою камеру. Здесь ею ждет неприятный сюрприз: на табурете уютно устроилась с вязаньем изгнанная им Мария Александровна. Он провел рукой по глазам, пытаясь прогнать наваждение.
— Опять вы?.. — произнес он ошеломленно.
— От меня так просто не отделаться, — сказала она с добродушным смешком. — И хотите злитесь, хотите нет, я подала прошение на имя государя.
— Вы подделали мою подпись?
— Боже избави! За кого вы меня принимаете? — Мария Александровна рассмеялась. — Я от себя подала. Государь мне не откажет. Не может отказать.
— Я не знаю, кто вы, — тягуче, предохраняя себя от нового взрыва, произнес Старков. — Но я никого не уполномочивал вмешиваться в мои дела. Слышите? — Он опять начал заходиться. — Я вас не знаю. И знать не хочу!
— Да нет же, — с кротким упорством сказала Мария Александровна. — Вы меня знаете. Только притворяетесь зачем-то… Я вдова Кирилла Михайловича.
Он молчал, то ли все еще не понимая очевидного, то ли не желая понимать. Она шутливо надула губы.
— Какой беспамятный! Вы же прекрасно знали моего мужа.