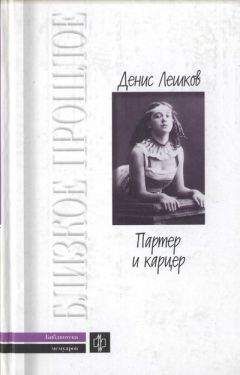Таким образом я остался на 2-й год в V классе. Обидно было не то, что я остался, а то, что причиной этому был только один ничтожный предмет — немецкий язык. Право, не так обидно было бы остаться из-за всех предметов или 3-х математик. Но тем не менее факт совершился — меня оставили. Я пробовал ходатайствовать у Гриневича, потом у инспектора, но они сделать ничего не могли, ибо «рябчик» не соглашался ни за какие блага поставить мне шестак. Так он меня, подлец, и доконал.
После этой злосчастной переэкзаменовки я отправился к товарищу, Мельницкому, обедал у него, потом сыграли 2 роббера в винт[21], затем поехали вместе в Павловск.
Дома, когда я явился и объявил в чем дело, произошла, конечно, некоторая семейная драма. Я и сам чувствовал себя крайне скверно, но что же делать? Ведь не реветь же из-за этого. «Что было, то прошло, и назад не воротишь». В этот вечер я с горя напился пьяным. С «ней» по этому поводу тоже была укорительная сцена. Алексеевы же, которые сами не особенно торопились в делах науки (старший, Коля, учился 8 лет и дошел всего до 2-го класса гимназии, на чем и застыл; другой же, Володя, проходил аккуратно курс каждого класса по два раза), они отнеслись к этому много равнодушнее.
Теперь мне предстоял выбор, к какому офицеру идти в отделение. (Каждый класс у нас делился на 2 параллельных отделения, каждое со своим отделенным воспитателем.) Один был Э. А. Верьковский, взбалмошный господин, который совершенно распустил своих кадет, и они творили что угодно, зато он не отличался особенной справедливостью и равным ко всем отношением. Другой же был В. А. Черни, довольно строгий, но зато справедливо ко всем относящийся господин, хотя и бывающий иногда нервным и раздражительным. Мне лично этот В. А. Черни не нравился, да кроме того у меня было годом раньше довольно неприятное с ним столкновение; поэтому я решил пойти к Верьковскому. Но в это время подвернулся один из товарищей, А. А. Лобановский. Он гостил эти два дня у меня в Павловске и стал меня уговаривать идти к Черни, причем расхваливал его до небес. Я помню, как в последнюю перед корпусом ночь обоим нам спать не хотелось, и он до самого утра убеждал меня всякими способами, чтобы я пошел в отделение Черни (в этом отделении он сам был, а также многие из прежних товарищей, в разное время отставшие), и добился своего. Я дал свое согласие и слово.
На другой день мы с триумфом отбыли в корпус. По приезде я записался в отделение к Черни. В этом году собралась в одном классе вся наша атеистическая компания. Сначала они отстали, а потом, через 2 года, я отстал, а они меня догнали. С В. А. Черни у меня сразу установились посредственные отношения, и не очень хорошие, и не очень скверные.
Здесь у меня появилась новая мания — увлечение математикой (отчасти это было влияние летних товарищей по оркестру, царскосельских гимназистов, поголовно занимавшихся из любви к искусству математикой до одурения). Это много помогло мне в занятиях, ибо, будучи в V классе, я из любви к искусству прошел сам курсы IV, V и VI класса, обзавелся разными особенными задачниками алгебры и геометрии, перерешал тысячу задач, ломал голову над трисекциею угла, квадратурой круга, доказательством гипотезы Пифагора и т. д. В задачах я насобачился настолько, что большая часть класса приходила ко мне за объяснением непонятных мест и невыходивших задач. Баллы я стал получать по математикам самые хорошие; преподаватель (П. А. Коробкин) смотрел на меня как на примерного ученика. Зато иностранные языки по-прежнему страдали, а также и Закон Божий. С батькой я постоянно вступал в пререкания относительно разных темных мест Катехизиса и Евангелия. Он меня недолюбливал и называл «еретиком». Я помню, как заспорил с ним относительно того, как дьявол «исчезнет от лица Господня, яко воск от огня»[22]. Но ведь Бог «вездесущ», как доказывается в Катехизисе. Спрашивается, куда же тогда дьявол денется?..
За этот год я перечитал массу разных книг, почти половину всего того, что я прочел за всю жизнь в корпусе. Это была смесь сочинений всех родов. Здесь были и Толстой, Достоевский, Гюго, Золя, Вольтер, Дидро, Монтескьё, Тургенев, Гончаров, Ницше, Чертков, Феррьер, Лаплас, Гельмгольц, Миллер, Боккаччо, Диккенс, Э. Сю, Понсон дю Терраиль, Дюма, Соловьев, Брет Гарт, Дарвин и много всякого другого. Особенное впечатление на меня произвели Гюго, Дарвин и Л. Толстой (последнего я перечитал несколько раз, причем поглотил также почти все его сочинения последних годов, изданные за границей и запрещенные в русской печати[23]). Главным же образом увлекло меня его сочинение «В чем моя вера»[24]. Оно написано страшно сильно, и правдивость его сопряжена с такими вескими доказательствами, что оно совершенно перевернуло мои взгляды и убеждения в новое направление. Л. Толстой сделался моим авторитетом во всем и везде. Прочтя же его «Патриотизм и правительство»[25], я получил полное отвращение к военщине и дал себе зарок ни под каким видом не идти в военную службу, чего бы мне это ни стоило. Мало того, что мы сами (то есть я и моя компания: Толмачев, Гаккель, Бетлинг) имели такие взгляды на военщину, церковь с ее попами, правительство и др. — мы стали усиленно агитировать эти убеждения среди товарищей в корпусе и на стороне. Увлечение это было настолько сильно, что у нас даже явился план основать особое «общество» наподобие ордена масонов для распространения своих (основанных, конечно, на больших авторитетах) взглядов на жизнь. Новым членом этой компании явился Э. Н. Бетлинг, поступивший в этом году в наш класс. Это был начитанный и развитой парень, одного поля ягода с нами, прошатавшийся предварительно по всем русским гимназиям и реальным училищам. Мы сразу приняли его с распростертыми объятиями. Самый рьяный из нас, В. Толмачев, обладавший порядочным красноречием, читал форменные проповеди и поучения в классах, курилке и при разных сборищах кадет. Мало-помалу мы стали пользоваться среди товарищей громадным влиянием; наши книжки и записки читались всеми. ⅓ роты перестала молиться и ходить в церковь. Сам я 2 года подряд не причащался. Это была уже довольно серьезная и опасная игра. Начальство кое-что знало, но мало обращало на это внимания. Только на следующий год, в VI классе, дело стало известно в больших подробностях и произошел огромный скандал. Каким образом нас четверых не выгнали в 24 часа из корпуса и Петербурга — это осталось для меня до сих пор тайной. По всей вероятности, стараниями директора корпуса (К. Н. Дуропа) дело было замято и не дошло до великого князя Константина Константиновича[26]. Впрочем, толстовское влияние и вера в «чистое учение Христа», не запятнанное «церковью и попами», у меня впоследствии изгладились. На «учение Иисуса» я стал смотреть как на великую и совершенную философию, но, к сожалению, невозможную к исполнению в наше «теперешнее» время. «Вера» же у меня исчезла всякая, и явился полнейший атеизм, сохранившийся и до сих пор. Впрочем, в эти годы у меня было столько переходных состояний и новых увлечений и взглядов, что всех их упомнить и записать немыслимо.
В свободные часы в этом году я продолжал заниматься оркестром. На этот раз, еще в начале года, я сделал всеобщую подписку на покупку нехватающих инструментов и пополнил таким образом оркестр.
В феврале приезжал в корпус император Николай II, обошел все классы, прослушал у нас ¼ часа урок геометрии, осмотрел лазарет и церковь, прослушал в зале две пьесы в исполнении духового оркестра 1-й роты, а затем, узнав, что есть балалаечники, изъявил желание послушать. Мы вышли, сыграли две пьесы (очень скверно, при расстроенных инструментах), получили «спасибо»; царь разговаривал со мной 1–2 минуты и похвалил за ведение дела. В заключение нас распустили на неделю.
Из инцидентов этого года помню еще, как однажды я наказал любопытство своего офицера В. А. Черни. Я имел тогда обыкновение в своей записной книжке против списка фамилий товарищей записывать их краткие характеристики. Раз Черни взял у меня эту книжку и, несмотря на мой протест, прочел эти записки, которые были доведены до буквы «П». Прочтя, он похвалил меня за меткие определения своих товарищей и взял с меня слово, что я дам ему дочитать, когда допишу до конца. Я согласился, дописал на другой день, и когда дошел до буквы «Ч», то против «Черни» написал его характеристику, на мой взгляд, и несколько колкостей относительно его любопытства. Он прочел, улыбнулся, ничего не сказал и с тех пор никогда не пытался читать моих книжек и записок.
Между тем «роман» мой продолжался, но за эту зиму было еще два временных отступления, впрочем коротких и несерьезных, чему способствовали «Кавказские вечера», на которых я стал постоянно бывать и танцевать. В Павловск в «тайгу» (так называлось место наших свиданий) я стал ездить уже не так аккуратно, как прежде.
Вообще этот 1899–1900 год я считаю первым переломом в своей жизни. Здесь я впервые стал смотреть на науку и образование не как на мучение, выдуманное кем-то для нас, а как на вещь, необходимую для всякого здравомыслящего и имеющего на то возможности человека. Конечно, хотя и позже я сам же не раз приходил к тому заключению, что учусь только ради аттестата, который необходим для дальнейшей карьеры. Но ведь, в сущности, образование средней школы, взятое в отдельности, — ничтожно. Все образование слагается из суммы знаний, достигаемых главным образом жизнью и чтением. Вот это образование играет огромную роль и имеет значение, а не зубрежка немецких переводов.