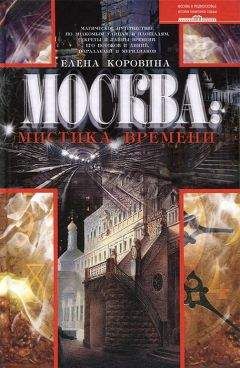Нажимая затвор своей «лейки», фотокор лопатками чувствовал, под каким наблюдением находится. И однажды:
— Это случилось в кабинете Сталина в сорок шестом году. Он подписывал какие-то документы. А я тогда впервые начал со вспышкой снимать. В общем, лейкой отснял все, что нужно, а потом решил поближе снять. Подхожу, вот я уже у края стола, и вдруг раздается грохот: лампочка, которую я привез из командировки в США, взорвалась. Наступила гробовая тишина. Краем глаза вижу, как начальник сталинской охраны смотрит на меня в упор. Я похолодел. И вдруг в тишине раздается голос Иосифа Виссарионовича: «Это не страшно. Это — салют». Он пошутил и… спас мне жизнь.
По сравнению с этими съемками режим работы с вождями постсталинского периода напоминает Самарию Гурарию санаторий. И Хрущев, и Брежнев обожали сниматься и не скрывали от репортеров своих слабостей. Брежнев, например, охочий до слабого пола, часто снимался с женщинами, на застольях. С Хрущевым вообще можно было запросто договориться на постановочный кадр, и тот по желанию фотографа позировал ему с колхозниками, шахтерами и знатными доярками.
В архивах Гурария есть уникальные снимки, за которые бы в свое время его поставили к стенке, а теперь — заплатили бы твердой валютой. Это снимки из частной жизни соратников Сталина. Но зарабатывать на них он принципиально отказывался до конца жизни, считая, что это глумление над памятью покойников.
А теперь — Париж, который не пал под натиском русских артистических сил. Он и не таких видел. Пожалуй, единственным благополучным среди наших здесь можно считать художника Александра Васильева. Оригинальная личность, между прочим, причисленнная при жизни к галерее европейских оригиналов. Во всяком случае ему, как никому другому, подходит слово «экстравагантность». Например, он может явиться на встречу разряженный, как рождественская елка, — шарфики, камеи, сюртук а ля тюрк или муфта в руках. Манера держаться обнаруживает в нем светского человека. Говорит, растягивая гласные и мило грассируя, так, что иной простак (и не простак тоже) примет его за иностранца.
Его судьба не менее экстравагантна, чем визуальный ряд. Уехав десять лет назад из Москвы, где был вполне благополучным художником из более чем благополучной семьи, в Париже не пропал, а стал знаменитым на весь мир. Во всяком случае Александра Васильева знают, как:
— оформителя сотни балетных и оперных спектаклей в 25 странах мира;
— владельца уникальной коллекции русского костюма;
— автора эскизов, хранящихся в Национальной библиотеке Франции;
— любимца властей Парижа, которые ему подарили квартиру.
И в конце концов он знает, что скажут о нем после смерти. Откуда столь несвоевременные и тщеславные мысли для 40-летнего господина? Постичь это можно, только поняв, что перед нами
КОЛЛЕКЦИОНЕР В ЦЕНЕ
Детство на помойке — Карнавал из бельгийских кружев — Во Франции нельзя дружить — В России не могут без кумиров — Успех на небесах — Плисецкая выписала пропуск в балет — Звезды должны звездеть
— Саша, говорят, что коллекция уникальных костюмов вам досталась по наследству от отца?
— Мой отец собирал фотографии и не собирал костюмы вообще. Я начал совершенно с нуля. Первый костюм я купил, когда мне было шестнадцать лет.
— Странные, согласитесь, наклонности у подростка.
— Понимаю ваш вопрос. Но я был экстравагантным, я ходил по помойкам. Это была внутренняя потребность. Ведь я — из старинной семьи.
По матери он Гулевич, из западнобелорусских поляков. Эта фамилия упомянута в хрониках 1578 года. А по линии отца: Васильевы — купцы второй гильдии из Коломны и Чичаговы, служившие морскими министрами при Екатерине Великой и Александре I. Последний Чичагов прославился Березинским сражением, когда около 300 тысяч французов пошло под воду. Любопытно, что со временем две его дочери, выйдя замуж, породнились с очень высокими французскими аристократами.
— Я не предполагал, что у меня во Франции больше шестидесяти родственников. Кто-то занимает большие посты в сенате. Не могу сказать, что они пылают ко мне родственными чувствами, но могу сказать, что с уважением терпят меня.
— Когда вы явились к ним бедным родственником из России, это не выглядело как: «Здравствуйте, я ваша тетя»?
— Я не искал этой встречи, они появились совершенно случайно на моем жизненном пути. Я не добивался их расположения, потому что никогда ни от кого ничего не хочу: я сам боец, сам творец. Больше следую совету — никогда ничего не проси, сами придут и все принесут. Хотя я очень активный человек и не сижу, не жду манны небесной.
— Когда появился первый экспонат вашей уникальной коллекции?
— Это была икона, которую я нашел в восемь лет на помойке, выходя из школы. Николай Чудотворец восемнадцатого века, среди хлама и мусора — это был для меня знак. Я очень много шастал по помойкам, потому что в то время сносили особняки в Староконюшенном переулке в угоду партийным работникам, которым строили кирпичные большие башни.
— Неужели в восемь лет мальчик отдавал себе отчет…
— Отдавал. Я пел «Боже, царя храни» — в семь лет меня папа научил.
Отец Александра Васильева был очень талантливый театральный художник. Он работал в «Ленкоме», Малом театре, театре им. Моссовета и оформлял знаменитые спектакли — «Петербургские сновидения» с Бортниковым, «Лес» с Ильинским, «Ревизора» во МХАТе, «Темп» в «Ленкоме» и другие.
— Я стал собирать коллекцию, потому что меня очень поддерживал отец, продолжает Васильев, мило растягивая русские слова. — Когда я нашел икону, я отнес ее домой, и родители сказали «молодец». Каждый день я ходил по помойкам и приносил старинные фотографии, старинные вышитые платья. Как-то приволок оттуда две тумбы карельской березы. Находил самовары, утюги, массу очень ценных вещей. Меня считали очень неспособным учеником в детстве, в двадцать девятой школе на Пречистенке, а сейчас я знаю семь языков, я все лекции читаю по-английски, по-испански, по-французски. А тогда я расклеивал объявления на водосточных трубах: «Куплю старинные веера, лорнеты, бисерные кошельки».
Потом папа стал мне давать деньги, по тем временам крупные — пять тысяч рублей. Это интересно, что я говорю? Я вел счет (очень люблю это делать) и давал родителям полный отчет, на что их потратил. Я никогда не ходил в рестораны, в кафе, хотя у меня была возможность шиковать, так как я принадлежал, что называется, к золотой молодежи, учившейся в вечерней школе в Дегтярном переулке. Вместе со мной учились Антон Табаков, Лена Ульянова, Коля Данелия, Степа Мукасей — дети очень знаменитых родителей той эпохи. Парни ходили в модных джинсах-клеш, а за девушками приезжали машины.
Жизнь представителя золотой молодежи катилась по известной траектории школа, затем постановочный факультет Школы-студии МХАТ. Здесь после помоечного детства Васильев во второй раз доказал, что и в среде знаменитых отпрысков попадаются «выродки». Во всяком случае, когда костюмерную старого МХАТа передали театру-студии, он их очень бережно хранил и работал с подлинными костюмами, в которых играли Михаил Чехов, Гзовская и другие. Потом Васильев стал художником Театра на Малой Бронной.
— Конечно, по блату: папа оформлял там спектакль «Волки и овцы», и меня пригласили делать костюмы: он меня протежировал. И мою работу отметили, но папа мне не помогал ничем. Меня всегда попрекали моим отцом, «в тени большого дерева ничего не растет». Поэтому я без конца хотел утвердиться. Я знал больше, чем мои сверстники, все время ходил в театральную библиотеку, я изучал французский язык, прилично знал английский, у меня было много друзей-иностранцев. И сегодня я стал более знаменит, чем мой отец. А мне грустно, я сожалею, я хотел бы, чтобы его вспоминали.
— Вы чувствовали себя богемным человеком?
— О, да! Я устраивал маскарады — первые маскарады Москвы. Первое мая, Гоголевский бульвар, восемьдесят восьмой, восемьдесят девятый — тяжелые годы. Костюмы двадцатых-тридцатых годов. Публика говорила: «Нет, это съемка. Нет, это шпионы. Да нет, они из сумасшедшего дома». Я ходил в цилиндре, в канотье среди бела дня. Я придумывал потрясающие девизы, помню один — «Украсим жизнь брюссельским кружевом». Представляете — в то время? У меня тогда уже была большая коллекция кружева.
Меня называли «Ярость масс». Я был, наверное, один из десяти самых модных молодых людей Москвы. Но я не был диссидентом: диссидентами в то время были те, кому власть не улыбалась. К моим же родителям власть тогда была более чем благосклонна. Они не были богемными в том смысле, что не пили, не курили и у них не висел на стене портрет Хемингуэя, как у очень многих в ту эпоху. Отец не был членом партии, но он был орденоносец, академик. Занимал привилегированное положение, но продвинулся не по партийной линии, а своим талантом.