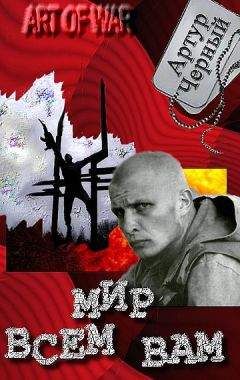Дмитриев писал: «Сейчас момент кульминационный — или сознательное приятие классики, или внеканоническое творчество».
Мы знаем примеры смелого эксперимента, «внеканонического» творчества выдающихся балетмейстеров. Уланова — пример «сознательного приятия» классики, но глубина и свобода ее осмысления делают искусство выдающейся балерины при всей чистоте его классической формы тоже в каком-то смысле (прежде всего внутреннем) «внеканоническим».
Знаменитая родоначальница так называемого «свободного танца» Айседора Дункан не раз выступала против системы классического балета, утверждая, что она противоречит естественной человеческой пластике.
Но творчество таких классических балерин, как Анна Павлова, Марина Семенова, Галина Уланова, неопровержимо доказывает, что суровые законы и правила, железная дисциплина классической школы танца не могут служить помехой, а, наоборот, способствуют расцвету, яркому проявлению крупной индивидуальности.
Уланова, неуклонно следуя строгой системе классической школы, всегда была в ней свободнее любой представительницы «свободного танца». Уланова создает ощущение, что она абсолютно независима в своем творчестве. Она знает и сохраняет каноны, но внутренне как бы преодолевает их, подчиняет себе. Она кажется значительней многих балерин просто потому, что рядом с ней ясно ощущаешь их «зависимость», их подчиненность танцу, костюму, традиции; для нее же все это уже не имеет решающего значения, как у Пушкина та или иная стихотворная форма не сковывала свободного выражения его сокровенных дум и чувств. Она соблюдает все тонкости стиля, исполняет те же движения, что и другие балерины, но почему-то кажется, что они старательно и умело выполняют тысячи обязательств, налагаемых на них условиями и условностями классического танца, а она как будто делает только то, что хочет, только то, что ей нужно. И кажется, что все происходящее на сцене для нее связано с какими-то ее мыслями, воспоминаниями, ассоциациями, что это только повод, предлог, дающий ей возможность чуть приоткрыть (только приоткрыть, а не распахнуть) дверь в ее внутренний мир.
Актерское творчество это всегда самораскрытие, и Уланова сохраняет в этом самораскрытии удивительное достоинство и сдержанность. И тем благодарнее остаемся мы за те драгоценные крупицы заветного, выстраданного, пережитого ею, которые получаем на ее спектаклях в высоких обобщениях искусства. Она приносит на сцену глубину своего жизненного опыта, своего интеллекта, своей сдержанности и мудрости. Она не притворяется бездумным и блаженным видением, не боится своей бледности, своей усталой улыбки, мысли, которую мы все время читаем в ее внимательных глазах.
Уланова в течение своей жизни как бы постепенно отбрасывала все украшения, все суетное и лишнее. Многие балерины словно воодушевлены тем, что они так легки, так непохожи на обычных людей; стоит им подняться на пуанты, как они уже ощущают себя «неземными», прелестными созданиями. Уланова танцует легче всех и поэтому не боится «груза» своих размышлений, своей чуть уловимой иронии, своих очень реальных и очень сложных переживаний. Она безупречно делает условные движения, предписанные канонами классического балета, но внутренняя ее жизнь абсолютно не условна. Причем эта внутренняя жизнь всегда соответствует ее человеческой сущности, она говорит о том, что сейчас, в данный момент, в эти годы волнует ее как человека, о том, что она знает о жизни и людях.
Если в ранней молодости ее «Шопениана» была наивной мечтой о счастье, трепетным предощущением жизни, то в последний период она освещает балет совсем иным чувством — это, скорее, воспоминание о радужных мечтах юности, отсюда легкая грусть и неожиданная улыбка, едва уловимая нотка иронии.
Как бы ни были условны балетные образы, Уланова всегда умеет передать в них неотразимую, почти обнаженную логику чувств. Мы верили юности ее Жизели и Джульетты, потому что она не притворялась наивной, не изображала розового неведения, но с какой-то почти «хронометрической» точностью воссоздавала логику их чувств. В первом акте «Жизели» она передавала очарование юношеских иллюзий, во втором показывала, какой мудрой и сильной может быть человечность, уже лишенная всяких иллюзий и тем не менее преодолевающая трагедию их крушения.
Бесконечно много писали и пишут о поэтичности Улановой. Но эта поэзия ничего общего не имеет с привычной условной балетной поэтичностью. В юности Уланова пленяла природной воздушностью, хрупкостью, серьезностью и чистотой всего своего существа. Вот, пожалуй, тогда она и была «вообще поэтична», «вообще прелестна».
В период творческой зрелости она на сцене не боится «прозы», то есть совершенно реальных чувств, мыслей и наблюдений. Принято писать, что она — воплощение любви, нежности, чистоты, музыки и т. п. Но для зрелого периода ее творчества это уже весьма приблизительно, даже неверно. Нет, теперь это, скорее, воплощение очень сложных размышлений о сущности любви, человеческой чистоты, музыки…
Глядя, как она танцует Жизель, кажется, что слышишь ее смех, ее детский лепет, потом гневный крик и бессвязные, отрывистые речи безумия. Можно различить, когда Уланова в танце «говорит» и когда «молчит».
В первом акте «Жизели» у нее есть пластические монологи, возгласы, восклицания. Во втором акте этого балета она «молчит», смотрит, безмолвно молит, защищает взглядом, движением рук, самой своей неподвижностью.
Можно понять, что ее Джульетта восторженно и пламенно говорит о своей любви, а пленная Мария молчит, не произносит ни одного слова, замкнувшись в своем горестном отчуждении.
Выдающийся советский актер Н. П. Хмелев писал об Улановой: «В ее игре, танце не было ни одного момента, движения и позы, которые не были бы оправданы. Игра Улановой, ее мимика, выражение глаз — переживания драматической актрисы огромного масштаба, облеченные в совершенную хореографическую форму».
Известно, что реформатор драматического и оперного театра К. С. Станиславский мечтал о создании и балетной студии. Когда пытаешься представить, какие задачи и цели ставил бы Станиславский перед ее актерами, думаешь об искусстве Улановой. Станиславский говорил молодым артистам оперы: «Моя система — для вас средство, а Шаляпин — цель». Великий певец был для Станиславского образцом потому, что умел внести в условное оперное представление могучее дыхание правды.
Подобно Шаляпину, Уланова одухотворяет условные формы своего искусства правдой жизни. Для нее правда — единственный путь к красоте. Именно поэтому ее искусство одинаково волнует всех — как знатоков балета, так и людей, абсолютно не искушенных в нем. Она владеет тайной настоящего «публичного одиночества», всегда поглощена танцем, самозабвенно погружена в мир чувств и мыслей образа.
Серьезность, строгость, почти торжественность исполнения отличают Уланову. Танцуя, Уланова глубоко сосредоточена, словно стремясь охватить, постигнуть ту гармонию, которая слагается из всех сложных движений классического танца, слить их в единое целое, выполнить с величайшей отчетливостью и законченностью.
Удивительна музыкальность Улановой. Дело не только в том, что Уланова обладает безупречным чувством ритма, что она в отличие от многих балерин слушает не отдельные такты, а целую музыкальную фразу и ей подчиняет свой танец, сливая свою пластическую кантилену с мелодией, звучащей в оркестре. Кажется, музыка звучит не в оркестре, а в сердце актрисы; слушая музыку, она словно прислушивается к движениям своей души.
«Музыка не забвение, не обман и не опьянение, она — откровение», — говорил Чайковский. Для Улановой музыка всегда — откровение. Вслушиваясь в мелодии исполняемых партий в балетах Чайковского и Прокофьева, она словно постигает сокровенный смысл жизни, проникает в глубину человеческого сердца. Она умеет отозваться на самые тонкие гармонические оттенки музыки. Не только ритмический рисунок танца, но и почти неуловимая игра рук, кисти или просто взгляд, пауза, наклон головы, самое содержание ее душевных движений — все это рождается из музыки, отражает ее во всей полноте и сложности.
Недаром, рассказывая о своей работе над ролью Одетты в «Лебедином озере», актриса писала: «…для меня уже стали намечаться в этой музыке какие-то определенные моменты, которые послужили в дальнейшем отправной точкой в моей работе над образом… Музыка балета Чайковского… определяла все мое сценическое поведение» [1]. Так актриса, постигая музыку, идет к постижению образа.
Мимика Улановой настолько правдива и естественна, что крупнейший советский кинорежиссер С. Эйзенштейн мечтал о том, чтобы она играла роль царицы Анастасии в его фильме «Иван Грозный». К сожалению, несмотря на ряд удачных кинопроб, этот интересный эксперимент не состоялся из-за занятости Улановой в театре.