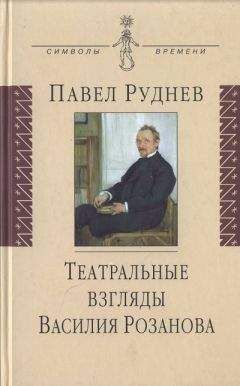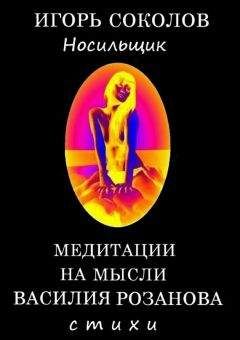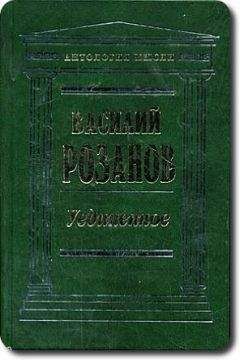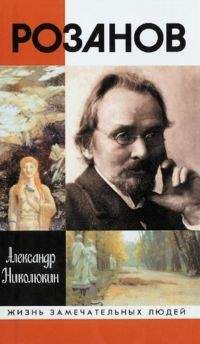В интересе Розанова к театру можно отметить следы его известной ненависти к литературности, книжности, литературоцентричности русской культуры. От писателя-фантазера, изобретающего собственные миры и тем самым подменяющего и так шаткую русскую действительность (это главный розановский упрек Гоголю), Розанова влечет к таинственной и священнодействующей фигуре актера, который, конечно, тоже изобретает фантастические образы и роли, но передает их зрителю неизменно живым, бесконечно человечным «способом»: «Актер живым волнением волновал живую массу! <…> Актер и публика взаимно творят друг друга. Актер притягивает к театру. <…>Игра, сцена и зрители — это всегда целое»{40}. Театр гуманизирует искусство, саму ситуацию восприятия искусства человеком.
В отношении актеров Розанов употребляет исключительно возвышенные, порой раболепствующие интонации, отразившиеся, в частности, в статье «Актер» (1909). Актер властолюбив и могущественен, он талантливо управляет самым дорогим, что есть у человека, — его эмоциями, «колебаниями» (одно из любимых слов Розанова) души. Актер устраивает пиршество для эмоциональной жизни зрителя. Розанов любит подчеркивать царственность актера, оперное величие его натуры, харизматичность и богатство актерской природы, сакральное происхождение эффекта перевоплощения-преображения. О Шаляпине Розанов пишет: «Бог пения спешил к своему месту»{41}, о безымянном (пока) актере из статьи «Актер»: «Некто странный прошел между вами»{42}, о польской певице Марчелле Зембрих: «В голосе ее, конечно, содержалось некоторое чудо (как и у Мазини), и можно было слушать… слушать, слушать… еще… еще… до конца жизни. И никогда не устанешь, никогда не надоест, п[отому] ч[то] это чудо (небесное)»{43}. Шекспировский период в истории Малого театра, которым Розанов успел причаститься в юности, научил его с особой торжественностью относиться к актеру-протею: «За погребальною колесницею великого актера должна бы также идти нация, <…> имя актера, артиста, артистки — почтенно»{44}.
Наблюдение за актером — ритуал, где актер-шаман гипнотически воздействует на таинственные, подвластные только ему тайники человеческой души: «Я закрыл глаза, чтобы впасть в полную иллюзию, не чувствовать, не видеть зала, люстр, сцены»{45}, «Я весь замер в неописуемом волнении. О, это — опять жизнь!»{46}, «У Шаляпина — царственное пение. <…> Это-то и дает обаяние в зале, чарует его, — может быть, не совсем отчетливым очарованием»{47}, «Перед талантом и мыслью „руки опускаются“… Ну, что ты поделаешь, когда „Мазини так поет“… Слушай и не рассуждай. Стрепетова играет: молчи и не ворчи»{48}. Розанов готов полностью довериться актеру; для него немыслимо не поверить ему, усомниться в правдивости сценического образа. Персонаж сущностен в той же степени, как сущностен актер, олицетворяющий этот образ. Театр собственно и создан для эффекта остолбенения, эмоционального поражения до глубины души, магического столбняка. Андрей Синявский (чья книга о Розанове построена на тончайшем психоанализе личности мыслителя) отмечает, что Розанову вообще было свойственно восприятие мира через шок, моментальное прозрение, через вспышки мысли: «…господствующее умонастроение или состояние души Розанова передает понятие — „зачарованность“. Потому что зачарованность предполагает чару, наваждение, сверхъестественную власть, выключающую человека из обычного потока жизни и нормального образа мысли»{49}.
В связи с этим нелишне будет заметить, что розановской эстетической норме больше соответствовали пластические искусства — театр, живопись, скульптура, архитектура. Не случайно в свой сборник, с опять-таки характерным названием «Среди художников», он включает статьи только о театре и об изящных искусствах — и почти ни одной о литературе, о книжном, рассудочном творчестве. Писатель для Розанова не обладает той энергетикой мага, будоражащего душу; писатель — это не «художник», не «чародей», скорее идеолог, мыслитель, философ. Сам старавшийся избегнуть «литературщины», Розанов не любил «писательства» в писателях. Театр и живопись — живые искусства, повторяющие и преображающие живую природу и не работающие с напечатанным словом — артефактом «эпохи Гуттенберга».
В статье «Афродита-Диана», передавая свои впечатления от постановки «Ипполита» в зале Дервиза (весна 1899 года), Розанов, двумя-тремя предложениями описав игру актеров, на протяжении всей статьи размышляет над мраморными изваяниями Афродиты и Дианы, украшающими сцену{50}. Театр, актерское искусство привлекают его статуарностью, иконописностью. Актер на подмостках скульптурен, монументален, он окружен живописной красотой декораций и костюмов, вписан в архитектуру театрального здания и отсюда — архитектуру всего космоса. О спектакле «Ипполит» уже Александрийского театра Розанов напишет: «Все представление было классической статуей, но только движущеюся и меняющейся; „статуйность“ зрелища — это было главным от него впечатлением»{51}. Говоря о совершенном стиле гоголевского письма, сравнивая его с резцом Фидия, следы от которого врезались на веки вечные в русскую память, Розанов пишет: «Гоголь дал нашему театру изваянную комедию, — но где материалом ваяния было слово, а не мрамор. В конце концов, поэтому его пьеса есть живопись <…> в тесном смысле — зрелище»{52}.
Скульптурность искусства, примат зрелищности над повествовательностью — это атрибут европейского, эллинского искусства, отличающегося повышенным интересом к внешней природе, к пластической картине мира, к природоподражанию: «Театр есть также „кумир“ и „построение кумиров“»{53}. Красота, явленная во плоти, — вот идеал европейского искусства: «оно [европейское Божество. — П.Р.] действует на мироздание тем особым способом, каким действует на человека прекрасная статуя, им созерцаемая. Она сама остается неподвижна, и однако мы, которые смотрим на нее, приводимся в движение, волнуемся и влечемся к ней»{54}. Скульптура максимально отвечает европейской концепции искусства как романтико-героического эпоса, имеющего корни в античных мифах и развившегося в литературе Средневековья, Ренессанса и романтизма. Именно поэтому Розанова так впечатлит тетралогия Вагнера «Кольцо нибелунга», виденная им в Мюнхене в Prinz-Regent Theater (см. статью «В театре Deutsche Kunst»{55}). Любовь к Вагнеру сблизит Розанова в его последние годы с Фаддеем Тиграновым, автором интересной книги 1910 года об оперной эстетике немецкого композитора.
В статье «Успехи нашей скульптуры» (1901) Розанов заметит, что в скульптуре, живописи, архитектуре отсутствует мир частного, интимного, задушевного. Те же самые качества Розанов замечает и в театральном искусстве: «…театр, например, не может передавать ничего интимного, скрытого, внутреннего <…>. Таким образом, закон театра, в отличие от закона литературы, есть фактичность, громкость и видимость. Нет штрихов, разрисовки, теней <…>. Вообще сила и краткость, как бы ударность всего, — есть основной закон театра»{56}. Здесь мы сталкиваемся с парадоксальностью розановской натуры. По всем вышеозначенным признакам Василий Васильевич «не должен» любить зрелищные искусства. Во множестве своих работ Розанов пытался отказаться от довлеющей эллинской концепции культуры в пользу семитических ценностей: поэзия одиночества вместо общности впечатлений, персональная молитва вместо зрелищности, интимность вместо публичности, тихий мир семьи взамен активной общественной жизни. В этой системе ценностей театр и зрелищные искусства являлись для Розанова отдушиной, где преодолевалась замкнутость на мире собственной души, на «уединенном». Попадая в театр, Розанов утолял свои нечастые, но тревожные приступы клаустрофобии. Известный английский писатель Дэвид Лоуренс, автор романа «Любовник леди Чаттерлей», писал о муках Розанова, увязшего в паутине самосознания: «Сознавая свою неспособность испытывать подлинные чувства, Розанов всеми силами стремился преодолеть себя и пробиться к реальным эмоциям»{57}. Розанов идет в театр, как многие приходят в храм, чтобы не остаться наедине с гнетущим миром собственных фобий. Это тот прекрасный случай, когда соборность и всеобщность эмоций — верный помощник от одиночества.
Статья «Актер»: поиск прототипа
«Актер» 1909 года — редкая для писателя статья, где Розанов отдает дань эстетике модерна. Здесь актерское мастерство и в перспективе — тайна творчества вообще — окрашены в мистико-демонические тона. В статье магическая, иррациональная природа актерства, о которой шла речь выше, оборачивается совершенно иной стороной. Здесь в актере Розанов усматривает «дьявольщинку»: размытость личности, полую душу, сатанинскую страсть к смене облика, «переодеванию». Мининовелла «Актер» имеет зачатки сюжета: Розанов приходит в актерскую уборную в момент, когда актер-инкогнито готовится к спектаклю, и видит, как в скором времени из «ничто», из пустоты («туловище под какой-то прозрачной сеткой, на ногах „что-то“, скорее похожее на чулок, нежели на обыкновенную часть этого белья, из ног одна в высоком, почти женском башмаке, другая — голая»{58} — абсолютно сюрреалистическое описание) является «нечто», крепкий героический образ, способный убедить зрителя не только в собственной реальности, но и в реальности своих чувствований. «Мы видели, как делается человек»{59}, — заключает Розанов. Он впервые пугается Актера, «метафизической тайны» его преображения, способности «оборачиваться»: «Актер — страшный человек, страшное существо. Актера никто не знает, и он сам себя не знает»{60}.