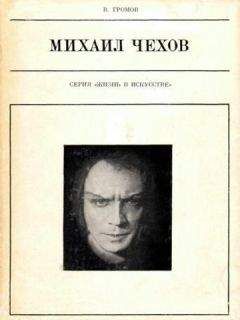С годами постепенно, но все настойчивее стали оформляться и конкретизироваться самостоятельные мысли и собственные практические приемы актерской техники. Это началось с того, о чем Михаил Александрович часто говорил нам: «Я никогда не позволю себе сказать, что я преподавал “систему” К. С. Станиславского. Это было бы слишком смелым утверждением. Я преподавал то, что сам пережил от общения с К. С. Станиславским, что передали мне Л. А. Сулержицкий и Е. Б. Вахтангов. Все преломлялось через мое индивидуальное восприятие и все окрашивалось моим личным отношением к воспринятому».
Эти слова Чехов написал и в книге «Путь актера», прибавив к ним откровенное и очень важное признание: «Со всей искренностью должен я сознаться, что никогда не был одним из лучших учеников К. С. Станиславского, но с такой же искренностью должен сказать, что многое из того, что давал нам К. С. Станиславский, навсегда усвоено мной и положено в основу моих дальнейших, до известной степени самостоятельных опытов в театральном искусстве».
Эта напряженная внутренняя работа проходила совсем не легко. И в ответах на анкету Театральной секции
Государственной академии художественных наук (1923) и в докладе В. П. Дитиненко «М. А. Чехов и его новая актерская техника», прочитанном в 1928 году в той же Академии, отбор мыслей о театре еще не завершен. Нет еще и вполне точной терминологии.
Правда, в докладе, составленном при самом активном участии Чехова, а также в занятиях с актерами МХАТ 2-го в сезоне 1926/27 года, некоторый черты этой новой актерской техники приобрели уже большую ясность, особенно в упражнениях, предложенных для углубленной работы актера над речью и движением, над овладением ритмом на сцене и над новым отношением к художественному образу, воплощаемому актером.
Если взять на себя смелость кратко выразить эти требования Чехова к актерам, можно было бы сказать так: необходимо довести речь и движение до такой степени совершенства, чтобы они могли передавать всю глубину и все внутреннее богатство живых художественных образов. Для этого надо глубоко понять мир звуков человеческой речи и очистить свои движения от всего натуралистического и узколичного. Это требование становится особенно настойчивым, когда речь заходит об отношении человека-актера к воплощаемому им образу. Здесь путь к новой театральной технике откроется только перед тем, кто захочет отказаться от эгоистической подмены образа своей собственной личностью. Актер должен стать самым чутким и самым совершенным проводником того, что видит в своем воображении, того художественного образа, который, по мнению Чехова, живет самостоятельной жизнью. Только доведенная до совершенства новая актерская техника может уловить и воплотить эту жизнь образа.
Однако этих объяснений было недостаточно даже самому их автору. И только в книге «О технике актера» мысли Чехова, как он сам говорит, были отобраны, доведены до наибольшей ясности после проверки на протяжении многих лет.
Действительно, в описании своеобразных, довольно сложных методов работы актера и технических приемов репетирования Чехов прилагает все усилия, чтобы говорить простым, ясным языком и дать актеру такие подготовительные упражнения, которые открывают новые возможности мощного воздействия на мысли и чувства зрителей.
Здесь многое поразительно просто, а многое сложно. Это относится больше всего к утверждению, что художественный образ существует самостоятельно, а актер только наблюдает и затем имитирует его, то есть становится инструментом для воплощения этого образа на сцене.
Прав ли в этом Чехов? По мнению Станиславского, неправ! Дважды об этом спорили Константин Сергеевич и Михаил Александрович — оба раза при встрече в Берлине. Первая произошла летом 1928 года. В письме к В. А. Подгорному Чехов с юмором пишет о том, как зашел к Станиславскому на десять минут и просидел пять часов.
Когда Михаил Александрович вошел, Константин Сергеевич взволнованно и торопливо сказал:
— Меня здесь замучили. Я приехал отдохнуть, а меня постоянно заставляют сниматься, интервью, постоянные посещения, черт их знает, садитесь, Миша, сейчас еще один мерзавец придет, садитесь...
«Я дико заржал, — пишет Чехов, — а он так и не понял, почему я смеюсь».
Мало-помалу разговор зашел об искусстве. Он был, по словам Чехова, очень и очень интересен. «Мы сравнивали наши системы, нашли много общего, но и много несовпадений. Различия, по-моему, существенные, но я не очень напирал на них, так как неудобно было критиковать труд и смысл жизни такого гиганта».
Судя по письму, учитель и ученик много и всесторонне говорили об этих вопросах: «Словом, поговорили мы с Константином Сергеевичем всласть, — заканчивает свой рассказ Чехов, — расстались друзьями, что меня очень радует, и пошли в кафе пить воду — это было уже около часу ночи».
Через два года — летом 1930-го — они снова встретились, опять в Берлине, и опять говорили много часов на те же темы. На этот раз Чехов с полной откровенностью сказал Станиславскому, что расходится с ним в понимании работы актера над образом. «Мы расстались, не убедив друг друга. Но я был счастлив, что К. С. Станиславский посвятил так много времени выслушиванию моих идей, а также тем, что он разрешил мне проверить эти идеи на практике».
Говорят, что Станиславский, вернувшись из Берлина, сказал, имея в виду, очевидно, эту встречу:
— Чехов погиб для искусства.
Но Михаил Александрович продолжал верить в свои театральные идеи и в книге «О технике актера» настаивает на том, что образы фантазии живут самостоятельной жизнью.
Однако в той же книге Чехов сам себе противоречит, употребляя выражения: «продукт вашей творческой интуиции», «образ, созданный вашей фантазией» и т. п. К тому же актер творит на основе образа, созданного автором в результате тоже очень сложного творческого процесса. Слова Чехова по этому поводу не подтверждают самостоятельного существования образа: «Как часто мы слышим, например, что существует только один Гамлет, тот, которого создал Шекспир. А кто дерзнет сказать, что он знает, каков был Гамлет в воображении самого Шекспира? “Шекспировский” Гамлет — миф. В действительности существуют и должны существовать столько различных Гамлетов, сколько талантливых, вдохновенных актеров изобразят нам его на сцене».
Все это заставляет думать, что вопрос о художественном образе, воплощаемом актером, только поставлен Чеховым и данный им ответ далеко не полон.
Подобные же мысли вызывают некоторые положения двух наиболее сложных глав «Психологический жест» и «Творческая индивидуальность», где Чехов ссылается на книги Р. Штейнера об эвритмии (учение о речи и движении) и о вопросах актерского мастерства.
В книге очень много выношенного самим Чеховым, выращенного им за много-много лет на основе «системы» Станиславского. Поэтому для того, кто впервые знакомится с книгой, гораздо яснее и доступнее звучат остальные главы, хотя и они достаточно сложны.
В двух же названных мною главах справиться с трудностями не помогают ни многочисленные рисунки жестов, ни подробные объяснения того, как у актера во время игры возникают «три сознания»: обыденное «я» человека, высшее «я» художника и сознание созданного артистом сценического образа. Эти положения звучат для современного советского актера, безусловно, как нечто чуждое.
Остается прибавить, что в лекциях, которые в конце жизни Чехов читал различным группам актеров, он старался находить все новые и новые слова для объяснения своих поисков в области актерской и режиссерской техники. К сожалению, эти лекции, как уже было сказано, изданы в произвольной обработке. Только в книге «О технике актера» звучит подлинный голос Чехова, ощущается живость и настойчивость его исканий в любимом деле. Здесь он страстный и увлекающийся исследователь тайн и необъятных возможностей театра, добрый и щедрый на отдачу своих знаний, тактичный, но неумолимо строгий судья всего низменного, пошлого, дешевого и эгоистичного в искусстве.
Теория Чехова субъективна в самом точном смысле слова: его творчество было загадочным не только для окружающих, но и для него самого. Фактически он всю жизнь искал более глубоких и точных ответов на эти загадки.
Рассуждения Чехова о театре надо оценивать вне связи с какой-либо одной определенной философией, потому что они были связаны с весьма многим: со всем тем, что он успел изучить за свою короткую творческую жизнь. И вместе с тем эти связи настолько приблизительны, условны и непрямолинейны, что они нарушаются, когда знакомишься с тем, что он создавал на сцене. Настаивать на этих связях — значит, навязывать Чехову то, что вовсе не было решающим и значительным в его творчестве. А уж если попытаться подвести итог всей его творческой жизни, то правильнее было бы сказать, что основной идеей, вдохновлявшей его на сцене, было «человековедение», которому он отдавал все свои силы, весь жар своего сердца, стремясь пробудить в зрителях пристальное внимание к человеку, глубокое уважение и мудрую любовь к нему.