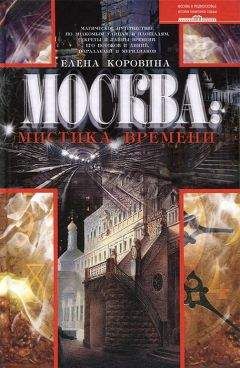— Но, как ни крути, главный аргумент вашего поколения — «нас запрещали». Только это вы можете предъявить?
— Можно подумать, запрещали, потому что мы были антисоветчики. Было Искусство, была атмосфера, настроение и мастерство молодых актеров.
«Наш дом» открывал Райкин. Мы на него молились, а он нас потом защищал перед парткомами всю жизнь.
А однажды, когда закрывали спектакль «Вечер русской сатиры», он пришел на худсовет в клуб МГУ и выступил: «Вы мне напоминаете коров послевоенных». Все удивились этому сравнению. А Аркадий Исаакович пояснил: «После войны я ехал с фронта, где выступал, в эшелоне вместе с бойцами. Где-то в Белоруссии поезд остановился прямо в поле, где гуляло стадо коров. Они все при виде людей вдруг замычали, как резаные. Мы пригляделись — у них у каждой огромное вымя, их пучило молоком! Некому было их подоить!.. И тогда бойцы, возвращавшиеся с фронта домой, высыпали с ведрами в поле и неумелыми, грубыми руками стали тянуть соски — кто как мог. И вы знаете, тут я впервые увидел, как коровы плачут, — сказал Райкин. — Да, да, на их огромных глаза были слезы. А некоторые даже потом лизали бойцам руку своим шершавым языком».
Мы все ошарашенно молчали. А Райкин добавил: «Вас, ребята, надо доить. И немедленно».
После этих слов спектакль был принят худсоветом.
— У ваших артистов уже тогда был звездный характер или эта болезнь поразила их позже? Ведь Филиппенко, Хазанов, Фарада, Филиппов — самые что ни на есть звезды…
— Ну о чем ты говоришь! Да вот это сегодня, может, моя самая большая боль. Больнее этого ничего нет. В этой «звездности», к счастью, поразившей не всех, для меня есть предательство самого себя, светлого ощущения нашего дела. Нет Володи Точилина — самой крупной фигуры из этой команды. А Саша Филиппенко… Он всю жизнь «клевал» с этой руки и до сих пор «клюет»: «Город Градов» вон сегодня читает по телевидению.
В семьдесят четвертом году вышла статья Александра Солженицына «Жить не по лжи». «Пусть ложь все покрыла, пусть ложь всем владеет, но не через меня». Этим принципом в студии «Наш дом» мы руководствовались до Александра Исаевича, хотя так блестяще, может, не формулировали свою концепцию. Пойми меня правильно, я не хочу хвастаться, я сейчас менее всего заинтересован получить дивиденды за хорошее поведение в прошлом, но…
Я никогда не был членом КПСС и, наверное, поэтому не сжигал своего партийного билета. Я не был художественным руководителем спектакля про брата Ульянова во МХАТе (имеется в виду Анатолий Васильев. — М.Р.). Я также не пытался инсценировать «Малую землю» (за нее принимался Роман Виктюк). И не ставил «Платона Кречета» или «Десять дней, которые потрясли мир» с сорока цитатами из Ленина, которые были «остры». Я в эти игры не играл. Мы харкали кровью — «Город Градов» ставили и Гоголя в те годы…
— Не играли, потому что смелые или глупые? Ведь только дураки ничего не боятся, извините, конечно.
— У меня было горе от ума. Я был не то что умный, а скорее безумный. Глядя со стороны — этакий наивно-сумасшедший. Не было желания сделать карьеру, доказать что-то. А хотелось предъявить обществу идею свободы как главную идею жизни. Это сегодня свобода слова досталась и тем, кому нечего сказать.
— А как обстояли дела с желанием кушать у художника, когда он лишился работы?
— А не было ничего. Я помню время, когда, прошу прощения, пустые бутылки сдавал.
— Когда ты молодой, хочется если не кушать, то пойти в ресторан с девушкой, туда-сюда…
— Мы умели где-то что-то подрабатывать. Я выступал. И за каждое выступление получал семь рублей пятьдесят копеек — читал свои фельетоны. Это был хороший приработок. Потом студию стали приглашать на все праздники, нас буквально раздирали. Нас спрашивали: «Что вам нужно на концерте?» — «Стол, пять стульев и Ленина задернуть». Потому что на сцене всегда стоял бронзовый «Кузьмич», он же Ильич. Я закончил Высшие сценарные курсы, и у меня вышло несколько фильмов. Тогда это был чувствительный приработок. Потом сам способ жизни был иной: мы не задумывались совершенно о том, что будет завтра, а уж тем более послезавтра. Если была в доме картошка и помидоры…
— Женщинам тоже этого хватало?
— Так, начинается. Что значит «женщинам»? На радио в турецкой редакции сто рублей стоила страничка. Я ходил с дамой своего сердца в студенческие годы в «Националь». Брал бутылку водки, закуску, бефстроганов или «киевскую». И я в десятку, ну в двенадцать рублей укладывался на двоих. Все свои деньги я прокатывал на такси — тогда за два рубля можно было доехать от Юго-Западной до центра.
— Вы мот?
— Да, но я нищий мот? Для меня деньги всегда были бумажками. Но когда у меня было много этих бумажек, я, конечно, был рад. У меня по этой части нет никакого ханжества. Мы могли легко пропить-прогулять-прокутить, легко и свободно остаться ни с чем, зная, что через какое-то время что-то возникнет. Ибо понимали: все, что мы делаем, — бесценно!.. А деньги, которые нам платили за это, были гроши, которые нам позволяли существовать. Если ты думаешь, что я идеализирую прошлое, это смешно.
Сегодня не просто лучше, сегодня возможностей больше в миллион раз. У нас этих возможностей не было. Если я попадал в ресторан ВТО после одиннадцати часов, то это была большая удача в жизни, потому что ни один ресторан в Москве после одиннадцати не работал. Мы быстро как-то стали всё забывать. Как еще совсем недавно, в период расцвета антиалкогольной кампании, официантки из ресторана ВТО коньяк приносили в чашечках. Это сейчас смешно, а тогда мы с умным видом цедили его, будто кофе.
Вот Бродский говаривал, что «он живет на исходе века со скверным привкусом во рту». Но при этом, правда, добавлял: «Это понятно: рту уже за пятьдесят». Мне уже за шестьдесят. Мой привкус со временем становится значительно хуже. Но… может быть, потому, что я был всегда нонконформистски заряжен, у меня было внутреннее презрение к искусству официоза… Я был свободен. Внутренне свободен! Всегда!
— Можно вопрос вставить?
— Я что-то разгорячился.
— Вы всегда на меня производили впечатление непотопляемого авианосца с очень здоровым цветом лица. Скажите, а вы когда-нибудь по-настоящему имели бледный вид? Так, что — упал и думал: не подняться?
— Многократно. У меня в жизни было несколько страшных ударов судьбы. Гибель жены. Я был на гастролях, а Галя возвращалась от своей мамы, с ее дня рождения. На них ночью налетел пьяный. От удара у нее — она сидела на заднем сиденье — получился перелом шейных позвонков.
Страшнейший удар — закрытие студии «Наш дом». Я оказался безработным, нигде не упоминалось мое имя. Товстоногов протянул мне руку, и в семьдесят третьем году я поставил «Бедную Лизу» в БДТ. И он же, Товстоногов, нанес удар, когда отобрал у меня «Историю лошади» — спектакль, над которым я работал восемь месяцев. Я до сих пор не могу прийти в себя. Но рассказывать об этом не буду. Секретов нет, просто слишком долго и подробно нужно объяснять. Нужно анализировать этику того времени, чтобы понять этику нашего. Третий жуткий удар — когда мне, как и всем, «перекрыли кислород» за участие в альманахе «Метрополь».
— Марк Григорьевич, а вы умеете держать удар?
— Вот Арбузов называл меня ванькой-встанькой. О моей ваньковстаньковости лучше судить со стороны. Я отнюдь не храбрюсь, просто у меня перед глазами пример моего отца, который восемнадцать лет пробыл в сталинских лагерях. А моя фамилия Розовский — это фамилия отчима.
— А как звучала греческая фамилия вашей мамы?
— Котопулло, Лидия Котопулло, а папина — Шлиндман, и я — Марк Семенович Шлиндман до официального усыновления. Поэтому мой сын — Семен, назван в честь отца. Мать была типичная гречанка, типичная Пенелопа — она ждала отца из всех лагерей. А у отца в Сибири появилась женщина, которая, по сути, спасла его. И мать со своей греческой прямотой не простила его. У того же Бродского есть стихи с театральным названием «Представление» Они вот как заканчиваются:
Это кошка. Это мышка.
Это лагерь. Это вышка.
Это время тихой сапой
Убивает маму с папой.
— В кого же у вас такой темперамент необузданный?
— Я не могу сказать, что я необуздан. Я типичный представитель штурмового батальона. Если не штурмую, у меня удовольствия нет. Директор клуба МГУ давал нам три дня на выпуск спектакля — большого, зрелищного, костюмного. В пятницу я приступал. Потом ночная репетиция, весь день субботы я не спал. Вечером прогон. Если надо — ночью. Утром в понедельник я приходил из клуба на первую пару и ложился спать на лекции. Это называлось выпустить спектакль. В Ленинграде в параллель с «Историей лошади» сделал гигантскую рок-оперу «Орфей и Эвридика». До трех я работал в БДТ, а с четырех до одиннадцати репетировал «Орфея». Сейчас бы так не смог.