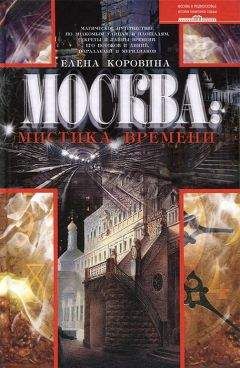— И кто тебе поверит. Знаешь, что скажут?
— Знаю. Но это правда. Сколько тебе надо? Три тысячи? На! Семь — на!
— Легко расстаешься с деньгами?
— Ты знаешь, да. Мне потом станет жалко.
— Тебя волнует чужое мнение?
— Да.
— И еще к вопросу о внешности. Ты похож на бретера и картежника…
— Еще и алкоголика.
— Как у тебя с этим делом? Не с алкоголем.
— Я не картежник и знаю, что близко нельзя подходить к рулетке. Близко. Бабушка мне сказала: «Никогда, Сашенька, не играй в карты. Не твое это занятие». И два раза на рулетке понял, что действительно нельзя.
— Буквально два последних вопроса. Твой внутренний монолог, когда все хей-хоп?
— Я выпью водки и скажу, что чего-то не хватает.
— Твой внутренний монолог, когда ты измотан, как последняя собака, и хочется закрыть дверь и послать всех?
— Я выпью водки и скажу, что чего-то не хватает.
— Монолог артиста, снимающегося за границей за твердую валюту, сыгравшего в театре в чужой стране на чужом языке?
— То, что выпью водки, — это однозначно. Смешанное чувство, когда ты понимаешь, что подошедший к тебе артист говорит: «Спасибо, Санька, сам понимаешь за что». Я слушаю его и думаю: «Домогаров, все-таки что-то в этой жизни ты сделал». Хотя я понимаю, что был толчок — Хоффман дал мне большой пинок под зад. Но ведь можно же и не удержаться.
— Не захотел бы — не распяли.
— Есть твоя правда в этих словах. Я должен был получить то, что должен, и получил. Прекрасно понимаю, что еще раз приеду в Краков и буду доказывать, кто я такой. И то, что директор краковского театра сказал: «О'кей, будет третий сезон», — вот большей награды для себя я не вижу. Ни цветы, ни деньги, а третий сезон. Может, я больной человек, и я понимаю, куда я себя кидаю, на что.
— Есть вещи, которых ты боишься?
— Есть. Я боюсь остаться без работы. Я боюсь остаться один. И самое страшное — что так будет.
— Не можливе — как говорят здесь, в Польше.
— Можливе. Поверь. Страх, что чего-то не будет, что почва исчезнет под ногами. Ты пойми, у меня же все началось в тридцать пять лет. Поздно. Я боюсь опоздать. Слишком долго ждал. Я психую и решаю для себя — будет съемка у Вайды или не будет? Когда начнет Хоффман новую картину? В декабре? Значит, я занят. Все время в ожидании — дайте, дайте мне эту «машину».
— А ты не боишься растратиться?
— Нет. Все отдается, но и все восполняется. Тем, что шофер нашей съемочной группы из Варшавы примчался в Краков на «Нижинского». Этим восполняется. Вот этим, вот этим, вот этим я живу. Появление человека, который в ночи мчался на машине хрен знает куда. Я ощущаю то сердце, которое заставляет мое сердце, как это ни поэтично звучит, биться в два раза быстрее. То правда.
— И она в том, что ты — артист эмоциональный, не интеллектуальный. Интеллектуал вряд ли добровольно полез бы в машину, чтобы трижды перевернуться. Тысячу раз подумал бы.
— А фиг ли думать? (Смеется. Пьет глинтвейн.)
Штурмовик всегда просит огня
Смотрите, кто идет, — да это же Марк Розовский! Художник стихийный, как волны на картинах Айвазовского. Непотопляемый. Во всяком случае, все его упругое, даже в 60-летнем возрасте, существо в своем стремительном полете несет оптимистичность формулы: «Всегда готов». И убежденность, что «не бывает напрасным прекрасное». Он готов… А к чему? Да буквально ко всему — к борьбе, работе, сопротивлению, любви. Все это, захваченное его необузданным темпераментом, часто производит эффект разорвавшейся бомбы.
К тому же Марк Розовский — единственный режиссер, который руководит профессиональным театром, не имея специального образования. Его театр расположен у Никитских ворот и носит одноименное название. Хотя много лет назад Марк Розовский готовился совсем к другой, не театральной карьере. Выпускник факультета журналистики МГУ тогда не знал, что попадет в батальон штурмовиков театра и этот
ШТУРМОВИК ВСЕГДА ПРОСИТ ОГНЯ
Мама гречанка, а папа — инженер — Не каждый антисемит — подлец — Игры, в которые мы не играли — Задернуть Ленина на спектакль — Нищий мот — это шик — Штурмовики просят огня
— Марк Григорьевич, а вы хоть одну статью написали?
— Много. Штук двести. Во-первых, у меня был творческий диплом — фельетоны и юмористические репортажи. Помню, я писал материал о магазине «Изотопы». Как сейчас говорят, «стебался». Но в отличие от сегодняшнего стеба мы стебались со смыслом. Еще был фельетон «Рокфеллер из Ногинска», где я бичевал человека, выписавшего себе удостоверение Рокфеллера. Я работал на радио редактором передачи «С добрым утром», а стол Войновича был напротив моего. В одной из своих книжек он вспоминает, как меня принимали на работу. А выглядело это так.
Председатель Гостелерадио Кафтанов, прочитав мою анкету, спросил меня: «А почему вы грек?» Я моментально ответил: «Потому что у меня мама гречанка». Возникла пауза. «А папа у вас кто?» — задает он свой главный вопрос. Я поднял голову и сморозил: «А папа — инженер». Поэтому Жириновский, я считаю, у меня украл эту формулировку: «Мама русская, а папа — юрист». Вот все это и описал Володя Войнович в книге, изданной еще двадцать лет назад в Мюнхене. Потом я рассказал эту шутку Мише Жванецкому, и он фельетон Райкина «Биография» начал так: «У меня мама гречанка, папа — инженер». Так что у меня два свидетеля.
— Тогда вы действительно дрожали из-за «пятого пункта»?
— Слово «дрожали» ко мне не подходит. Я никогда не дрожал. После моего ответа про папу-инженера я увидел, как эта громадина Кафтанов сначала вспотел, потом убрал мое дело в стол, встал, протянул руку: «У меня нет возражений». Вот ты спрашиваешь о «пятом пункте». В школе не было уж такого антисемитизма: может быть, потому что там училось много еврейских детей. И во дворе это не чувствовалось. А вот в студии «Наш дом»… В пятьдесят восьмом году, когда она образовалась, ею руководили Алик Аксельрод, Илья Рутберг и я, Марк Розовский. Ничего себе компания?
Был один смешной случай. В горкоме партии, куда меня часто вызывали, потому что запрещали спектакли, один человек говорит: «Ты же должен просто понять: Аксельрод, Розовский, Рутберг… Ну хоть бы один был, а то сразу три». А я ему: «А ты знаешь, что Ленин сказал?» — «Что?» — встрепенулся он. «Не каждый подлец антисемит, но каждый антисемит — подлец». Он застыл, вцепился в меня: «Ты что? Правда, что ли, Ленин так сказал? Ну-ка, дай я запишу».
Вообще это были потрясающие люди. Борясь против антисоветских ассоциаций, они все время искали их и находили там, где рядом не лежало. «Что это у вас царя зовут Макс? — спрашивали меня про спектакль „Сказание про царя Макса-Емельяна“ (это шестьдесят восьмой год). — В Максе прослушивается Маркс». Или: «А почему он с желтой папкой? Желтый цвет — это национальный цвет еврейского народа». Я в таких случаях играл этюд, который заранее готовил. Этюд назывался «Неуправляемый художник».
— Это как же?
— Когда мне говорили про «желтый цвет еврейского народа», я со всего размаха кулаком трескал по столу, так что на нем все подпрыгивало, и матом начинал кричать: «Ты провокатор, сука! Ты, б…, хочешь меня упечь! Чтобы я, е… т… м…, провокациями занимался!» Логика оправдывания здесь не проходила. Методика борьбы заключалась в том, чтобы поразить противника его же оружием. После моего крика меня надо было вязать, выдворять, в конце концов, что-то делать со мной, а этот человеческий фактор в начальственных кабинетах совершенно не учитывался. От неожиданности они пугались. «Марк, что ты, что ты, успокойся. Я же просто хотел проверить. Сядь, все хорошо. Че ты так реагируешь?» — «А как мне реагировать?» — ревел я, как раненый бизон. Надо сказать, что этот метод иногда приносил результаты: «Царь Макс-Емельян» выходил уже с любыми папками.
Мне смешно сегодня слышать, что шестидесятники, к коим меня относят, все как один приспособленцы, вошли, мол, во власть, устроились. Попробовали бы они в тот момент на моем месте что-либо пробить. А мы каждый спектакль, как лбом стену, пробивали. Да, приходилось идти на какие-то компромиссы, обманывать, вынимать (временно!) из текста кое-какие реплики. Но… Нашими благими намерениями, нашим романтизмом вымощена дорога не в ад, а в нынешний бесцензурный рай. Шла нормальная борьба. Конечно, мы все это осознавали: если уж всерьез говорить, у меня и диссиденты приходили в театр. Десятилетие «Нашего дома» в середине шестидесятых годов — это было грандиозное событие, студенческие театры приехали со всей страны. Мы были таким эпицентром студенческого движения протеста.
Да в Москве вообще было два новых театра — мы да «Современник». Одна и та же аудитория ходила на «Голого короля» и к нам на «Город Градов» Платонова, которого мы первыми же и поставили. «Не забыть составить двадцатипятилетний план развития народного хозяйства. Осталось два дня», — говорил со сцены Миша Филиппов под общий хохот. Каждая строчка не то что сатирическая — убийственная была для режима. Бьет по ним и по зюгановым даже сегодня.