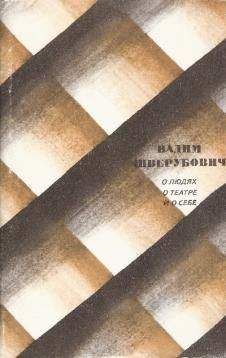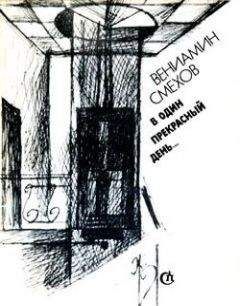Мы стояли у окна и радовались. Но официально мы еще далеко были от родины: границы, таможни, проверки паспортов, визы, визы… Польская, немецкая выездная, литовская въездная, литовская выездная, латвийская въездная… Все медленно, нелюбезно, подозрительно.
Наконец 18 мая утром — Рига. Долго сидели на вокзале, никак не могли выяснить, когда будет поезд на Москву. Случайно на вокзале оказался администратор театра, где Василий Иванович недавно выступал. Он быстро выяснил, что поезд на Зилупе (граница Латвии) пойдет вечером, к нему, вероятно, прицепят советский вагон, который передадут через границу в Себеж, а там… дело советских.
В нашем распоряжении был целый день. У всех оказались знакомые, у которых можно было пробыть хоть часть времени. Василий Иванович с Ниной Николаевной пошли к московским друзьям Цейтлиным, я — к своему гимназическому товарищу Саше Шульману. Сходили мы еще и в баню — кто знает, скоро ли мы сможем еще хорошо помыться, ведь мы совсем неясно представляли себе условия, в которых будем жить в Москве.
Поздно вечером мы забрались в темный, освещенный только светом зари и вокзальных фонарей вагон. Это был старый-старый вагон «микст», такой же, как тот, в котором мы три года тому назад уехали из Москвы в Харьков, а может быть, это он и есть? Вспомнили, кто в каком купе ехал, и даже какие-то опознавательные знаки обнаружили. Очень всем хотелось, чтобы было именно так, что-то в этом видели символическое, какое-то прощение грехов, вроде как страна наша ждала нас и сохранила нам наш вагон, чтобы сделать эти три года не бывшими, — сели в этот вагон в июне 1919 года, а из него вышли в мае 1922 года, а все, что было, — нам приснилось. Ничего будто и не было.
Спали все плохо, тревожно и беспокойно. Я несколько раз выходил в коридор и каждый раз встречался с кем-нибудь «вышедшим покурить». То Н. Г. Александров, то Петя Бакшеев, то Василий Иванович. Поезд шел плохо, часто и подолгу стоял на каких-то маленьких станциях — ведь это был местный латвийский поезд, связывающий Ригу с восточными окраинами страны. Где-то среди дня мы подошли к Зилупе. Последняя проверка паспортов, сверка их со списками и с лицами — очень почему-то внимательно сверяли фотокарточки с нашими физиономиями.
В Зилупе было очень много латвийских военных — и жандармы, и солдаты-пограничники, и просто солдаты, и офицеры. Все почему-то страшно мордастые, свирепые, подчеркнуто воинственные, вылощенные и подчеркнуто элегантные: сапоги их были до блеска начищены, франтовские мундиры туго и гладко облегали их упитанные тела. Масса оружия — винтовки, пистолеты, сабли, тесаки. На бетонных вышках — пулеметы, на самой станции — бронепоезд с расчехленными пушками. Как будто ожидается нападение врагов или уже идет война.
Мы долго пробыли в Зилупе. Одинокий наш вагон был отведен метров за сто от станции и там стоял, окруженный бдительными жандармами и пограничниками. Все двери были заперты, окна закрыты. Потом с советской стороны подошел паровоз, нас прицепили к нему, и мы медленно двинулись через нейтральную полосу.
Последнее, что мы видели в стране, которую покидали, были бульдожьи морды «защитников европейской законности и порядка», державших «у ноги» винтовки с примкнутыми штыками.
Но вот позади нейтральная полоса, вот арка с полусмытой дождями надписью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», вот землянка, на крыше которой два красноармейца. Один лежит на животе и помахивает в воздухе босой пяткой, из-под сдвинутой на затылок фуражки под белесыми бровями — покойные, любопытные глаза. Другой, спиной к нам, что-то наигрывает на гармошке. Мне не хочется видеть тут символы, но в этой противоположности характеров двух стоявших лицом друг к другу воинств были потрясающие образы, олицетворение двух миров. Одного — трусливого и потому фанфаронски задиристо-воинственного, и другого — мощного и потому спокойного и мирно-отважного. Одного — фальшиво напряженного, другого — искренне миролюбивого.
Василий Иванович радостно заулыбался, глядя на босого «вояку», — вот она, Русь, простая, легкая, свободная… И на душе стало светло и легко…
Через много лет я спросил его, помнит ли он въезд в Россию в 1922 году? «Как же, — сказал он, — босого красноармейца-то? Конечно, помню, разве такое забудешь?»
Мы подъехали к станции Себеж. На платформе шло обычное для провинциальной станции гулянье. Густая толпа перетиралась под окнами нашего вагона. Торговались, ругались, хохотали, пели… «И все по-русски», — невольно удивлялись мы. Было странно и непривычно от сплошь русской речи.
Нас довольно долго проверяли, осматривали ручной багаж (большой багаж пошел на московскую таможню).
Из Москвы навстречу нам выехал администратор МХАТ С. А. Трутников. Он довольно энергично способствовал ускорению всего процесса проверок, осмотра и, главное, отправки вагона, и ко второй половине дня мы уже ехали по России.
Мы не отрывались от окон, хотелось смотреть и смотреть; все казалось другим, чем везде, своим, родным… «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, — как слезы первые любви», — читал Василий Иванович, и, как никогда, остро, и сладко, и нежно, и страстно воспринимали мы эти слова. Мне кажется, никогда в жизни я не ощущал такой напряженной, такой переполняющей любви к Родине…
На другой день к вечеру мы были в Москве. Вокзал кишел народом, суетливым, неумелым, не приспособленным к путешествиям. С непортативным, нескладным багажом, с испуганными глазами, с красными, потными лицами, люди неслись куда-то не туда, их возвращали, они волокли свои мешки и сундучки обратно. Как это было не похоже на берлинский вокзал, с которого мы уезжали! Там все ездят привычно, спокойно, организованно. Но нам и в этом хаосе виделось что-то милое, теплое, свое, смешное и родное — ведь и в нас это было, ведь и мы где-то внутри были такими же неорганизованными. Но не в этом даже дело, просто все русское, все родное — нелепая суета вокзала, булыжник привокзальной площади, ни на каких других в мире не похожие извозчики с пролетками «в виде сломанных скрипок» — все, все вызывало наше умиление и приязнь. Уж очень всему были открыты наши души, уж очень иссохли от тоски по родине наши сердца. И все, что мы воспринимали родного, своеобразного, не похожего на заграницу, — все было на потребу, все радовало и грело. Так, вероятно, возвращался бы в родной аул надолго оторванный от него горец — бедная сакля, грязновато все, серо и тесно, но и серость и грязь родные, дорогие, в них прошли детство и юность.
Но мы-то видели не одну грязь и серость, нет, она только не мешала, не застилала нам (как застилает чужим и своим мещанам) истинной красоты, внутреннего богатства, простора и душевной чистоты нашей страны…
Парадной, торжественной встречи не было.
Приехали мы к вечеру, все актеры были заняты — уже начались спектакли. Поезд наш пришел с опозданием часа на три-четыре. Так что многие из собравшихся встретить разошлись не дождавшись. Но нечего греха таить, было это и намеренно: руководители театра не хотели проявить большой радости и ликования. Не хотели, чтобы «кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали». Помню на вокзале А. В. Агапитову, Лидию Зуеву, стариков Гремиславских, А. К. Книппер (племянницу Ольги Леонардовны), Анну Николаевну (жену) и Марусю (дочь) Александровых. Еще какие-то близкие люди и родственники, но ни речей, ни цветов…
Все быстро разъехались на извозчиках, а может быть, и на автомобилях, не помню. Помню только, что шел я за ломовой подводой, на которой в театр везли багаж всех приехавших. Шел долго, по бесконечной Мещанской, по Сретенке, Лубянке, Кузнецкому мосту. Полок гремел по булыге улиц, в косых лучах вечернего солнца золотилась пыль, звенели и дребезжали московские трамваи. Белая, летняя московская толпа гуляла, лузгая семечки, больше по мостовой, чем по заставленным какими-то лотками тротуарам. Все было не так, как «там», все было по-московски — и люди, шедшие по мостовой, и так по-московски, единственно в мире звеневший ножным (а не электрическим) звонком и завывавший на поворотах трамвай, и кустарные самодельные вывески-картины, и золотой крендель булочной, и свиная голова мясной… А каменные тумбы подворотен и углов переулков… А деревянные мостки у дощатых стен с косым потолком над ними — вокруг редких строек… А круглые тумбы с афишами — мне так хотелось скорее-скорее прочесть их, чтобы узнать, чем живет, какой духовной пищей питается она, моя Москва. Но ломовик орал на меня, чтобы я не глазел по сторонам, а берег кладь: «Это тебе не деревня, московские огольцы лямзить ох и ловки!»
Во двор театра я вошел часу в девятом; у актерского подъезда толпились загримированные актеры — они взволнованно обсуждали недавно закончившуюся встречу «качаловцев» с М. П. Лилиной, И. М. Москвиным, Л. М. Кореневой и другими участниками спектакля «Ревизор», который шел в этот вечер.