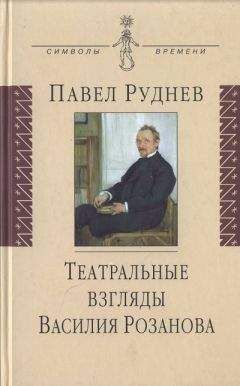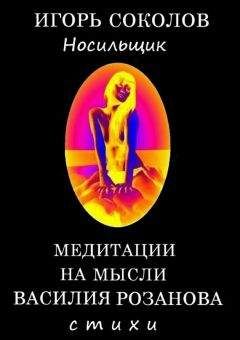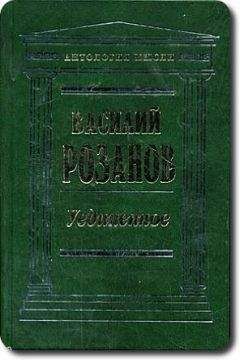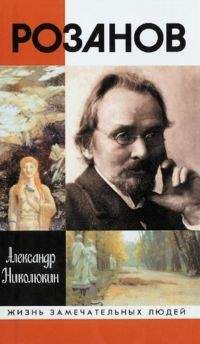В некрологе Савиной, написанном Борисом Глаголиным, актер цитирует Розанова: «Смерть Савиной — победа над смертью живых театральных покойников <…> Иначе прав В. В. Розанов, который в своем последнем коробе „Опавших листьев“ уверяет, что „все нагие образование“ выразилось в „Господа, предлагаю усопшего почтить вставанием“»{80}.
Уже после того как поиск прототипа розановского Актера завершился, к нам в руки попал один архивный документ. В отделе рукописей Российской государственной библиотеки хранится письмо Глаголица к Розанову и открытка, подписанная для Василия Васильевича. На карточке, изданной журналом театра Литературно-художественного общества, изображен Глаголин в роли Гамлета. Пушнина в вороте, клинок, медальон на шее, женственное лицо, густые волосы, изящно ниспадающие до ключиц, крупные брови, темный грим на глазах — Глаголин здесь поразительно похож на Михаила Чехова в роли Гамлета. На правых полях фотографии читаем надпись, сделанную рукою Бориса Сергеевича: «Вот дурак!! О нем: „Актер“ (в „Р. сл.“)»{81}. Тщеславный Глаголин не хотел затеряться в вечности.
На обороте фотографии находим следующую надпись: «Очаровательный наш [?], чарующий Василь Васильевич, Вашего знакомого друга [не установленное лицо[5]. — П.Р.] я еще не видел и пьесы его не читал. А где она? Я бы ее сразу и прочел… Хоть бы когда пришли [нрзб[6].]. Пишу на открытке для Ваших детей, а не для Вас, которому до меня конечно нет удовольствия. Ваш Б. Глаголин»{82}.
В том же фонде хранится и еще одно деловое письмо Глаголина к Розанову на бланке редакции Журнала{83}. Письмо без даты, но ясно, что оно было отослано после опубликования статьи «Актер» и, стало быть, после отправления первого письма с фотографией. Борис Сергеевич, который занимался еще и редакторской работой, просит Розанова срочно сдать статью для первого номера журнала Театра Литературно-художественного общества. Нумерация журнала была «театральной» — по сезонам. И № 1 — это первый номер начинающегося сезона 1909/1910 годов. Из библиографических данных мы знаем, что Розанов опубликовал в журнале пять статей. Четыре из них опубликованы в сезоне 1908/1909 года, и только одна в № 2 за сезон 1909/1910 годов — «Отчего не удался памятник Гоголю?». Видимо, о ней и идет речь в записке Глаголина, на которую, как мы видим, Розанов откликнулся с опозданием. Глаголин в письме также просит Розанова привлечь к сотрудничеству в журнале Корнея Чуковского. Розанов действительно был кратко знаком с литературным критиком Чуковским, но к 1909 году охладевает к нему. В № 9 за 1908/1909 год была опубликована ироническая и злая статья Розанова «Чуковский о русской жизни и литературе», затем последует еще несколько обвинительных статей в адрес Чуковского{84}. Весьма комично, что Глаголин просит автора критического очерка пригласить раскритикованного им писателя к сотрудничеству с журналом, в котором того уже облили грязью!
О режиссерах и Федоре Шаляпине
Розанов крайне редко бывал в Москве, поэтому спектакли Московского Художественного театра видел лишь на гастролях в Санкт-Петербурге. Есть верные свидетельства, что он видел «Бранда», «Вишневый сад», «На дне» и вечер пьес Метерлинка. Вот первое впечатление 1908 года от МХТ, вполне в духе «актерской» философии Россова: «Театр г. Станиславского появился у нас в пору глубокого упадка сил сценического мастерства, когда Ермолова и Федотова уже почти закатились за горизонт, Стрепетова умерла, когда давно умерли Щепкин и Шумский <…>В эту пору выступил г. Станиславский со своей мыслью. Недостаток таланта, которого не было, не было просто нигде в театре, — он заменил глубокою личною вдумчивостью в дело и тщательной, бережливой обработкой всех подробностей. Нет актеров — выступил режиссер. И выступил почти гениально. Он заставил почти позабыть, в чем дело. Он сделал величайшую подделку таланта, которая почти заставила забыть о недостатке его, — забыть, что в природной даровитости актера — все дело сцены. Он подкрасил нашу печальную действительность, которая является едва ли не печальною действительностью всех сцен Европы. Почему-то это искусство везде падает и уже упало. Что-то есть в духе эпохи, что мешает расцвести ему»{85}.
Искажая идею новой театральной профессии, Розанов отказывает режиссеру в таланте все по той же причине, по которой отказывал в «живой душе» писателям, чье искусство — выдумка рассудка, фантастическая реальность. Режиссер, по Розанову, так же насилует эмоции актера, как писатель насилует читателя, предлагая вместо реальности ее мертворожденный отблеск: «Собственно вдохновенен в театре один г. Станиславский, но это режиссерское вдохновение, чем оно выше и гениальнее — тем властительнее связывает самую возможность вдохновения у исполнителей, т. е. у актеров, — у всей массы их. Театр не „живет“, а именно — „представляет“ <…> Вы через несколько лет не вспомните, как задрожал вдруг голос у такого-то артиста или как он выполнил такой-то жест, — который лег на вас неизгладимым пластическим впечатлением, вызвал у вас слезу, воспитал вас, дал вам новое чувство, новое понимание жизненных вещей, житейских положений и отношений»{86}. Разумеется, в словах Розанова легче усмотреть влияние журналистских штампов тех лет по отношению к искусству МХТ, нежели выжимку оригинальных идей. Таковые появятся у писателя в тот момент, когда Розанов в 1910 году столкнется со Станиславским лицом к лицу.
Розанов связывает глубокий кризис современного театра с упадком актерского мастерства, с потерей таланта на биологическом уровне — ген актерства якобы потерял в новых поколениях былую активность. В статье «О символистах и декадентах» (1896) Розанов пишет: «Мир как предмет любви или интереса, даже как предмет негодования или презрения — исчез <…> перед пустым Я проносятся чисто абстрактные видения, не цепляющиеся ни за какую реальную действительность, ничего из реального мира не несущие в себе»{87}. Мы далеки от мысли связывать подход Розанова к проблеме МХТ и статью «О символистах и декадентах», но здесь важен писательский подход к проблеме. Потеря жизненной активности, витальной энергии, интереса к жизни и к ее милым мелочам, сюрреалистическое ощущение «ведо́мости» человека, которое свойственно актеру режиссерского театра, — это те неприятные качества эпохи, которые Розанов в ней обнаруживает. Розанов хочет видеть в обостренной чувственности актерского организма спасение от кризиса культуры. Актер живым чувством, человеческим расположением к зрителю, органичной потребностью просвещать и воспитывать способен пробуждать в людях жизненные силы, выжимать слезу и смех, тренировать эмоции. Актер — «чувствилище» культуры.
Позже Розанов изменит свое отношение к МХТ. Это случится на встрече Станиславского и Немировича-Данченко с деятелями искусства на IX заседании Театральной академии у барона Остен-Дризена. Художественный театр в то время гастролирует в столице (это апрель-май 1910 года). Вновь раболепствуя перед актерами, Розанов ощущает, что встречается с богами: «когда, ласково здороваясь со всеми, появилась среди гостей белая голова, на высоком, стройном корпусе Станиславского <…> я простил ожидание[7], как и все прощается „богам“. На таких не сердятся… уже, прежде всего, потому, что он сам ни на кого не сердится»{88}. Первую часть статьи «В театральном мире» Розанов завершает былинной развязкой, присказкой: «Как смиренный древний грек, передаю читателям (и истории) свои „осязания“. Что видел и как слышал»{89}.
Розанов склонен творить мифы и сочинять легенды. Его восхищение всегда граничит с обожествлением. Он вспоминает, как первый раз увидел Станиславского на спектакле Дункан (об этом же факте Розанов рассказывает в одной из статей об Айседоре): «Будь я английским королем Эдуардом VII, я уступал бы из четырех недель одну г. Станиславскому просто для удовольствия „доброго английского народа“, которому было бы приятно видеть на троне такую исключительную фигуру…»{90}. Когда Розанов видит седую голову Станиславского в первых рядах Суворинского театра на гастрольных показах Айседоры Дункан, он ощущает, что попал на Ареопаг, на «обломок Олимпа», где собрались величайшие небожители от театрального искусства.
Никто и никогда так о Станиславском не писал, тем более при жизни — только Розанов, сладкоречивый сказочник, «младенец» русской литературы. Это его стиль поведения — раболепствующего вдохновенного поклонника, не стесняющегося своих инфантильных чувств. Далее Розанов пускается в описание внешних черт и подробностей лица Станиславского, как всегда придумывая какие-то свои, неведомые другим законы физиогномики: «Тут что-то особенное, тут было что-то преднамеренное, нарочное у природы. Ведь все русские вообще так некрасивы, по крайней мере в наше „декадентное“ время… И рост не велик, а вида — совсем никакого… Князья же и графы, в особенности, до того тусклы, до того подчеркнуто безвидны, что просто грусть берет… <…> натура-родительница, в упрек этим историческим фамилиям, так грустно потускневшим физиологически, и сотворила нарочно Станиславского, и даже довела его до театральной сцены, чтобы показать на всю Россию, вот каков должен бы быть настоящий барин»{91}.