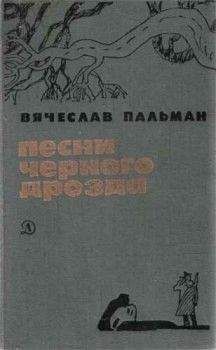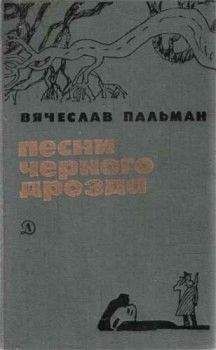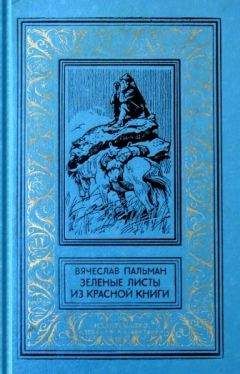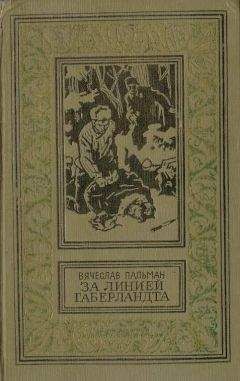Трусливое отступление перед менее сильным зверем объяснялось очень просто: то была его прошлогодняя подруга с его же детьми. И если она заняла берлогу Лобика, то взяла этим шагом лишь небольшой процент с отцовских долгов, накопившихся за полтора года: она сама родила и воспитала медвежат, сама защищала их и учила, тогда как легкомысленный папаша не сделал ничего, чтобы помочь оставленной семье. И теперь медведица, похоже, очень желала дать трёпку увёртливому отцу.
Лобик прытко бежал, оглядываясь, и жёлтые глаза его виновато моргали. Он не понимал, вероятно, что в этой истории вёл себя не хуже и не лучше всех других. Доказано, что медведи не слишком примерные семьянины, они считают, что дело воспитания медвежат целиком лежит на родительнице, а если и участвуют в этом сложном процессе, то с гораздо большим желанием на должности нянек-пестунов у детей совсем чужой медведки. Вероятно, тогда ответственности меньше…
Дня три он ходко обследовал глубокую долину, забитую глухим лесом. На переломе склона, среди плитняка из глинистого сланца, разлопушилась густейшая заросль падуба и боярышника. Здесь Лобик обнаружил неглубокую нишу и начал выковыривать плитку за плиткой. Так ему удалось углубить впадину метра на три, сделать поворот и устроить подобие пещеры. У входа возникла горка, хорошо маскирующая чёрный зев берлоги. Он остался доволен. Натаскал немного сухой листвы, травы, двигая её перед собой лапами и мордой, и улёгся, сонно помаргивая уставшими веками. Вздохнул раз-другой и задремал.
Из дремотного состояния его вывел какой-то шум снаружи. Лобик с трудом открыл глаза и выполз.
Что творилось на белом свете!
Яростный ветер прижал тёмные облака к самому лесу, разбойничий свист и вой наполнили узкую долину. В лесу скрипело, охало, последняя сухая листва с шумом кружилась в воздухе, где-то грохотали, срываясь, камни, с треском ломался сухостой. И в довершение ко всему, из тёмных туч полил дождь пополам со снегом.
Лобик посидел, посмотрел на безобразную зимнюю непогоду и, вздохнув, начал осторожно отступать в глубь своей пещеры.
3
Весну он почуял не носом, не ушами, а всем телом.
Вероятно, когда запас жира, накопленный в медвежьем теле, подходит к концу, в коре мозга возникает какое-то беспокойство. Тут уж не до сна.
Лобик завозился. Сначала ещё смутно, а потом вполне реально он ощутил неудобство во всем теле, холодную сырость, проникшую сквозь грязную, свалявшуюся за зиму шерсть.
Он заметил, что в берлоге отовсюду капает и эти капли неприятно холодят кожу. В полутьме разглядел ледяные натёки на потолке и на полу. Мокрый камень издавал раздражающий могильный запах. И вообще в этом каменном склепе ему сделалось очень неуютно:
Лобик выполз к свету, но за горой камня, ещё припорошенного снегом, ничего не увидел. Он лежал у входа и щурился, оберегая глаза от яркого света, отражённого снегом, да вздыхал. Лапы покалывало, словно он перележал их. Сильно болели старые пулевые раны, ещё сильнее болел отяжелевший живот.
Медведь преодолел наконец оцепенение, встал на лапы и высунул нос за кучу камня.
Ну и погодка!
Солнце не выглядывало из-за облаков, туман скрывал даже близкие пихты, а воздух казался тяжёлым и мокрым. Лобик попытался было уйти назад, но, вспомнив, что в берлоге грустно, нехотя перебрался через камни и побрёл вдоль склона без цели и планов, куда глаза глядят.
В нем по нужде проснулся вегетарианец.
Увидев молодые липы, потянулся, сорвал голые, прошлогодние веточки и брезгливо пожевал их, качая головой. Горькая слюна наполнила рот, но Лобик все-таки проглотил это первое после зимнего поста блюдо. Нашёл ягоды калины, сухие и перемороженные, — поел этих ягод. Напал на чернику, сморщенную и жалкую, взялся собирать чернику. На шиповнике он, можно сказать, разговелся, ободрав множество кустов. Желудок у него заурчал, живот заболел ещё сильнее и вроде бы опустился вниз. Он даже приподнялся, удивлённо посмотрел на мешающий живот и потрогал его лапами, дивясь туго натянутой коже и непроходящей боли.
Снег лежал не всюду, и это открытие обрадовало Лобика. Попадались и выгревы, а на них короткая и сильная зелень, которую Лобик разрывал и поедал прямо с корневищами, слегка отряхивая их от липкой глины.
Дня два он бродил с нарастающим ощущением тяжести, вялости и слабости. Иной раз ложился, рычал от боли, но продолжал заталкивать в желудок все, что хотя бы мало-мальски можно было назвать пищей.
Как-то под вечер он понял, что сейчас умрёт. Закружился на месте, заревел уныло и жалко, упал, снова поднялся, и тут вдруг страшная боль пронзила его, и кишечник стал освобождаться. Лобик не стоял, а бегал по кругу, хотя в глазах у него плясали разноцветные круги.
Через двадцать минут он почувствовал великое облегчение и впервые лёг на холодную мокрую землю в блаженном состоянии радостного освобождения от странной болезни. Все кончилось. Он здоров. Теперь подальше от этого опозоренного места — и да здравствует жизнь, весна, здоровье!
Энергии прибавилось. Когда на горы упала позднемартовская ночь с ядрёным морозцем и синими тенями в долинах, Лобик никак не мог уснуть и все прислушивался к звонкому воздуху, который успел очиститься от тумана.
Вдалеке ударило глухо и сильно. Лобик поднял нос кверху и долго вынюхивал воздух, словно этот далёкий гром мог предвещать ему что-нибудь особенное.
Едва дождавшись утра, медведь пошёл в сторону ночного грома.
У подножия хребта он наткнулся на свежее месиво из грязноватого снега, перекорёженных стволов, расщеплённых веток и каменного боя. Над лавиной до самой вершины хребта хорошо просматривалась чёрная, гладко соструганная широкая полоса.
Медведь обошёл вокруг мёртвой насыпи, затем забрался на спрессованную гору снега и тщательно обнюхал каждый метр. В одном месте нос наткнулся на что-то, стоящее внимания Лобик зарылся в снег, принялся выворачивать и отбрасывать камни, куски дерева, ледышки. Рыл и фыркал, как собака, учуявшая под землёй мышь.
Достать погибшего тура — вероятного виновника лавины — ему стоило больших трудов. Лобик перепахал и раскидал тонны снега с каменной начинкой, пока не коснулся рубчатого рога, загнутого колесом.
Не вытаскивая добычу из ямы, медведь впервые в этом году поел очень основательно и тут же, в раскопе, уснул, чрезмерно отяжелев от пищи. А проснувшись, снова принялся за еду, заслоняя останки тура от наглых вороньих нападок всем своим грузным телом.
Когда он шумно перевалился через край снежной ямы и встал во весь рост на снеговом завале, до слуха его донёсся слабый металлический звук, словно ружейный затвор лязгнул. Чуждый звук. Ухо его прижалось, шерсть на загривке встала дыбом. Сейчас обожжёт, загорится в боку, прогрохочет — и все… Он ещё не видел никого, но ощущение близкой опасности заставило его на одно мгновение окаменеть.