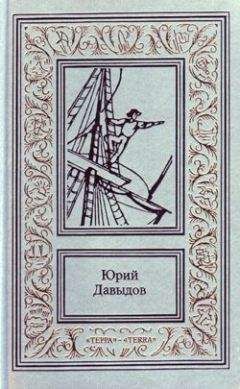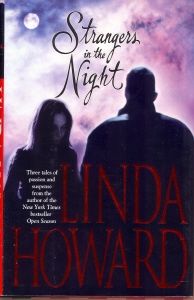— Аллахъ и его Пророкъ наградятъ Абу-Салеха за его любовь къ ближнему, отвѣчалъ я послѣ нѣкотораго молчааія, — но напрасно сынъ Эльгорской пустыни пытается напугать и обмануть Москова. Не первый годъ онъ живетъ въ лѣсу и самъ можетъ распознать друга и врага. Бедуиновъ нѣтъ вълѣсахъ Іордана, кромѣ Абу-Салеха; это его ружье стрѣляло въ ночи, думая напугать одинокаго путника. Такъ не дѣлаетъ честный Арабъ, и если Абу-Салехъ не покинетъ насъ, то мы имѣемъ ружья которыя не даютъ промаха. Иди съ миромъ откуда пришелъ. Аллахъ архамту (Господь тебя да помилуетъ).
Мои рѣшительныя слова не понравились коварному Бедуину; надо было видѣть какъ исказились черты его лица, какъ передернулась вся его длинная мускулистая фигура, когда Абу-Салехъ понялъ что его планы запугиванья рушатся, что его хитрость разгадана врагомъ, и тотъ надъ кѣмъ онъ хотѣлъ зло потѣшаться заставилъ отступить его самого. Руки его судорожно перебирали то винтовку, то широкій ханджаръ торчавшій за поясомъ. Глаза Абу-Салеха метали искры иготовы были, казалось, пронизать меня. Я слѣдилъ за каждымъ движеніемъ Араба, боясь его внезапнаго нападенія. Моя острожность впрочемъ была напрасна, потому что Османъ въсвою очередь не спускалъ глазъ съ Абу-Салеха, и пуля его винтовки пронизала бы послѣдняго при первой попыткѣ къ нападенію.
— Московъ слѣпъ и глухъ, какъ-то отчаянно вполголоса пробормоталъ Бедуинъ, не столько въ свое оправданіе сколько для того чтобъ отвѣтить что-нибудь. — Абу-Салехъ такъ честенъ какъ и Османъ и никогда не предастъ друга.
Съ этими словами Бедуинъ повернулся, вскинулъ на плечо свое ружье и удалился въ темную чащу лѣса. Ложь и выдумка Абу-Салеха были до того очевидны что я не могу простить себѣ цѣлаго получаса паники которую онъ навелъ на меня и Османа, заставивъ насъ постыдно ускакать съ зеленѣющихъ береговъ Іордана. Ворочаться было поздно, а проводить ночь въ пустынѣ, когда въ нѣсколькихъ верстахъ отсюда можно найти гостепріимный кровъ въ руской страннопріимницѣ Іерихона, было бы неостроумно, тѣмъ болѣе что все равно мы не могли бы заснуть спокойно эту ночь. Мы рѣшились, поэтому, ѣхать въ Іерихонъ, гдѣ можно было отдохнуть послѣ двухъ малосонныхъ ночей.
— Эль-Риха, эль-Риха! радостно кричалъ Османъ, узнавъ о моемъ рѣшеніи не оставаться больше въ пустынѣ.— Туда не придутъ къ намъ Абу-Салехъ и Бедуины пустыни.
Словно предвкушая скорый отдыхъ, наши кони помчались быстро по равнинѣ, звонко постукивая своими крѣпкими копытами о металлическую почву и слегка пофыркивая, когда свѣжій вѣтерокъ ночи прилеталъ къ намъ съ береговъ Мертваго Моря.
Іерихонъ, Іерихонъ! Какъ много сливается въ нашемъ представленіи при одномъ имени этого нѣкогда великаго города и какъ мало отъ него осталось теперь! Палестина изъ конца въ конецъ покрыта великими развалинами прошлаго, отъ котораго часто уцѣлѣли лишь одни жалкіе слѣды, но рѣдко гдѣ отъ толикаго величія осталось такъ мало какъ на мѣстѣ Іерихона. Пока кони наши неслись быстрымъ аллюромъ вдоль долины Эль-Гора къ темной кучкѣ зелени скрывающей жалкія лачуги современнаго Іерихона, мысль путника витала далеко за предѣлами дѣйствительности. Воображеніе рисовало иныя картины, иныя времена, когда высокія стѣны окружали столицу царей Ханаанскихъ, одно имя которой — Риха — говорило о благовоніяхъ разлитыхъ въ долинѣ текшей медомъ и млекомъ. Перистыя купы пальмъ осѣняли благословенный городъ, тонущій въ ароматныхъ садахъ, и чудный источникъ Елисея, котораго воды давали сказочное плодородіе окружающимъ полямъ. Но вотъ зазвучали трубы Навина, пали стѣны великаго Іерихона, и на заклятомъ вождемъ Езреевъ мѣстѣ заглохъ и засорился чудный источникъ, терніи и волчцы замѣнили бальзамники и пальмы, а вмѣсто стадъ развелись гіены, шакалы и львы, которые своимъ ревомъ напоминали забредшему путнику о второмъ Содомѣ Ханаанской земли….
По полю покрытому колючими травами и кустами наши кони примчали насъ скоро къ небольшому бѣлому домику за каменною стѣной, гдѣ на мѣстѣ древней Галгаллы пріютилась русская страннопріимница. Остановились наши взмыленные скакуны. Османъ слѣзъ съ сѣдла и постучалъ въ ворота прикладомъ своего ружья. На нашъ зовъ откликнулся заспанный женскій голосъ, и въ перемежку съ арабскими словами я услышалъ русскую молитву. Стуча ключами, хозяйка страннопріимницы отворила ворота, наши кони переступили порогъ русской земли, а за ними вступилъ и я подъ мирную сѣнь Антониновской постройки. {Архимандритъ Антонинъ, настоятель русской миссіи въ Іерусалимѣ, творецъ цѣлаго ряда русскихъ страннопріимницъ во Святой Землѣ.}
Какое-то тихое, свѣтлое чувство охватило меня когда почувствовалъ что стою на русскомъ уголкѣ земли, среди долины Іордана, у древней Галгаллы Навина, и когда вмѣсто арабскаго привѣтствія я услышалъ русское «милости просимъ». Невысокая благообразная женщина, вся въ черномъ, стояла предо мной освѣщенная двойнымъ свѣтомъ луны и небольшой масляной лампочки. На ея чисто русскомъ лицѣ было написано столько кротости и смиренія въ ея добрыхъ глазахъ было столько ласки и материнской нѣжности, что одинокому путнику, прибредшему сюда изъ далекаго сѣвера, въ лицѣ доброй старушки представилась настоящая мать которая вышла на встрѣчу сына.
Несмотря на глухую ночь, хлопотунья-хозяйка хотѣла угостить дорогаго гостя чаемъ и закуской, и только мои усиленныя просьбы удержали ее отъ этого намѣренія. Кони наши были поставлены подъ навѣсъ, въ ясли имъ былъ засыпанъ зернистый ячмень. Османъ мой примостился въ нижнемъ помѣщеніи страннопріимницы, куда хозяйка нанесла ему цѣновокъ и одѣялъ, тогда какъ для меня на верху былъ приготовленъ быстро чистенькій нумерокъ съ бѣлыми занавѣсками, диваномъ и желѣзною кроватью съ эластическимъ матрацомъ и кисейнымъ пологомъ, защищающимъ спящаго отъ нападенія скниповъ, которыхъ очень много въ долинѣ Іордана. При видѣ комфортабельной постели меня потянуло невольно на отдыхъ, но яркій дискъ луны, смотрѣвшей прямо въ раскрытое окно, откуда неслись благоуханіе апельсиновъ и лимоновъ въ цвѣту и немолчное пѣніе цикадъ, потянулъ снова на открытый воздухъ, въ садъ, гдѣ рѣяли рои блестящихъ свѣтляковъ, гдѣ дышали ароматами чашечки нѣжныхъ цвѣтовъ, гдѣ въ жасминовомъ кустѣ надъ журчащимъ ручейкомъ пѣлъ соловей…
Утопая въ сіяніи и нѣгѣ царившихъ вокругъ, дремалъ безмятежно Іерихонъ; его усыпляли трели бульбул я и крѣпкій ароматъ его зелени, пьющей воды благословеннаго Кельта. Крики шакаловъ не доносились сюда изъ пустыни, стоны хубар ы (совы) не тревожатъ сна обитателей эль-Риха.