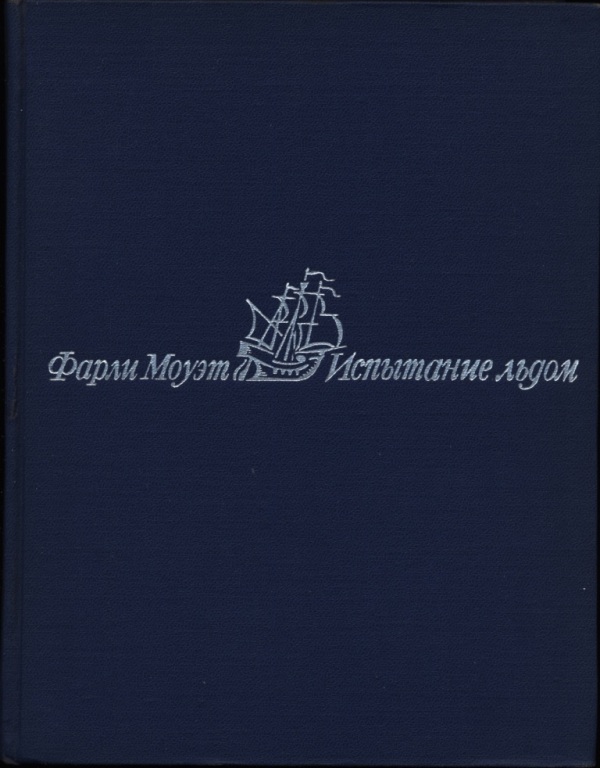еще три дня, и мы почти все время сидели в иглу, питаясь черной ножей, крангом и тюленьим мясом.
В воскресенье 20 января, через десять дней после того, как ушли с корабля, мы оказались в печальном положении — у нас не хватало пищи. Погода по-прежнему не позволяла охотиться, а все, что было добыто раньше, мы уже израсходовали, кроме скудного неприкосновенного запаса. Я хотел послать Кудлу обратно на судно за продовольствием и только ждал улучшения погоды, но в то утро появилась уже настоятельная необходимость в такой попытке. Кудлу отказывался идти один, и я решил его сопровождать.
Мы рассчитывали заночевать на морском льду, который теперь снова смерзся (по крайней мере в том районе, где мы находились), и на следующий день попасть на судно. С собой я захватил только спальный мешок, плед, мешок с разными мелочами и полфунта жареной баранины, которую я бережно хранил.
В 8 часов утра мы уже были готовы в путь и стояли около нарт с упряжкой из 12 совершенно изголодавшихся собак. Простившись с Эбербингом и Тукулито, мы с Кудлу отправились в путь.
Вначале нам сильно мешали торосы, но, обойдя их, я начал надеяться, что мы быстро придем к цели. Не тут-то было! Вскоре нам пришлось пробираться по очень глубокому снегу, и, хотя мы с трудом прошли еще несколько миль на юг, под конец стало очевидно, что так продолжать путь нельзя. Иногда нарты и собаки шли довольно хорошо, но часто так проваливались, что их почти не было видно. Кудлу, казалось, вот-вот свалится, а я так ослабел, что еле тащился. И вот, когда перед нами стала дилемма, что же делать — идти ли дальше или возвратиться в иглу, — я увидел, что к нам приближаются Эбербинг и Угарнг.
Они догадались, в какое трудное положение я попал, и Эбербинг подошел на лыжах, чтобы предложить пойти на корабль вместо меня. Я принял это предложение и он вместе с Кудлу отправился в путь. Угарнг пошел в другом направлении, отыскивая тюленьи полыньи, а я, совсем ослабев, медленно и с трудом притащился в иглу. Мне пришлось долго добираться до хижины, и, придя, я сразу же повалился на снежную лежанку в полном изнеможении.
К вечеру распогодилось; я поднялся на холм, возвышавшийся над заливом, и в подзорную трубу увидел Эбербинга и Кудлу, медленно продвигавшихся неподалеку от того места, где было сооружено наше второе иглу. Всю эту ночь и следующий день я почти не мог шевельнуться, обессилев из-за нехватки пищи. Весь мой дневной рацион состоял из кусочка китовой кожи.
Вечером я пошел к Угарнгу. Он только что вернулся с охоты на тюленей, просидев два дня и ночь у тюленьей полыньи. Но единственной наградой за все его терпение и труды было то, что он увидел, как тюлень появился из-подо льда, сделал вдох и опять исчез. Что же касается Угарнга, то одним разочарованным иннуитом стало больше. Но он отнесся к этому разочарованию как истинный философ, сказав на родном языке: «Завтра утром снова пойду».
И действительно, утром, которое было на редкость хорошим, Угарнг опять отправился на промысел. Но и на следующий день он возвратился с пустыми руками, хотя просидел у полыньи всю ночь. Для нас это было большой бедой. Мы теперь не могли даже развести огонь, пока не добудем тюленя. Посетив иглу Угарнга, я убедился, что у него положение не лучше нашего. Его жена Никуджар сидела в одиночестве, если не считать ее ребенка от Угарнга и Кукуйер — дочери от другого мужа. Света у них не было. Ребенок вел себя беспокойно; по словам матери, он был голоден. — «Моя молока нет. Мясо конец. Ворвань тоже. Есть нечего. Свету нет. Тепла нет. Надо ждать тюлень».
Пока я ждал, пришла вторая жена Угарнга и сообщила, что охотники все еще сидят у полыньи. Вскоре возвратился другой эскимос, Джек, и тоже с пустыми руками. Печально, очень печально! Сам я находился в тяжелом состоянии и чувствовал себя отвратительно. Но хуже всего было видеть мучения этих несчастных людей и сознавать, что ничем не сможешь им помочь, пока не появится Эбербинг и не принесет продуктов с корабля. У меня остался только кусок черной кожи, который я и грыз с наслаждением. Теперь я мог бы съесть все, что дало бы необходимое количество калорий и превратилось бы в кости и мышцы. Как-то ночью я спросил Тукулито, нельзя ли мне отведать висевшие в иглу почерневшие объедки. Я знал, что женщина оставила их для собак, но был так голоден, что мне страшно хотелось их съесть. Тукулито ответила, что не может даже вообразить, как я стану есть такую дрянь. От одной мысли об этом ее чуть не стошнило. И я больше не настаивал. Но вскоре эти объедки исчезли. Пьюнни (третья жена Угарнга) препроводила их в свой желудок!
Угарнг вернулся поздно и опять с пустыми руками, Тукулито подала ему только чашку чаю, какой она сумела приготовить. У нас не было ни нужного света, ни топлива, чтобы подать хороший чай. Подкрепившись этим напитком, Угарнг сразу же опять отправился на промысел.
На следующее утро Эбербинг не вернулся, и все мы ломали голову только над тем, где бы достать пищи. Наконец Тукулито удалось срезать немного белой массы с куска черной кожи. Из нее она «выжала» достаточно жиру, чтобы подогреть немного добытой из снега воды. Когда вода нагрелась, туда бросили несколько пригоршней индейской муки, оставшейся из привезенного мной небольшого запаса. Муки было не более двух унций, но в тепловатой воде она разбухала, и это напомнило мне библейскую историю о доброй женщине и пророке Илье. Мы с Тукулито, с которой я разделил эту трапезу, нашли «пудинг» превосходным. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я все еще не забыл этот завтрак, и, если мне суждено прожить столько, чтобы съесть тысячу более вкусных у себя на родине, мне его не забыть!
Хотя здоровье мое было в порядке и настроение приличное, я быстро терял в весе. Но, пожалуй, болезненней, чем голод, ощущалось отсутствие света и топлива. Не раз, чтобы не замерзнуть, я спасался только тем, что сидел на постели, набросив на себя несколько оленьих шкур. Записи в дневнике приходилось делать при температуре —15°, в то время как снаружи было от —25