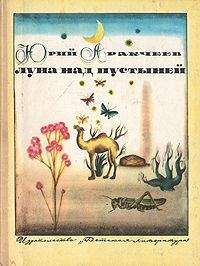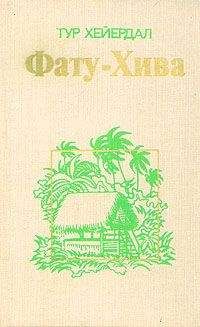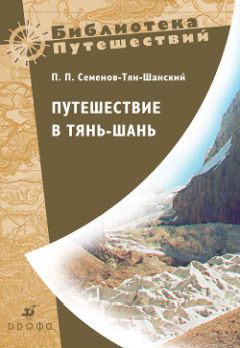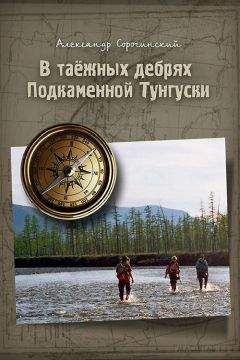Бабочек в тугаях встречалось не так много, как мне бы хотелось: несколько видов белянок, пандора, репейница, черные сатиры — такие же, каких мы встретили посреди пустыни, — чернушки и бархатницы, бражник-языкан и множество разнообразных голубянок. Ни махаона, ни подалирия я в первые дни не встречал, хотя без конца искал их взглядом. Фотографируя однажды сиреневого (под цвет солодковых цветов) паука-бокохода, с наслаждением высасывающего пчелу, я вдруг услышал мелодичный и нежный звон. Поначалу я даже не обратил на него внимания, считая, что это у меня в ушах звенит от жары, но звук был очень уж мелодичный, приятный для слуха, от жары обычно не звенит так приятно. Если сравнивать, то тембр напоминал, пожалуй, арфу, если бы какой-нибудь опоздавший на репетицию арфист вздумал заиграть на ней не в полусне, как обычно, а в темпе. Или это напоминало электроорган, на котором проигрывается несколько однообразных высоких нот. Однообразно, но очень мелодично. В недоумении я принялся оглядываться вокруг себя. И наконец увидел источник. Это была любовная песнь двух цветочных мух-жужжал, довольно крупных, черных, с яркими белыми пятнами на брюшке, с длинными, вытянутыми вперед хоботками. Одна из них держалась за листик, другая же, соединенная с подругой (или другом) задней частью брюшка, оставалась на весу и быстро-быстро вибрировала крылышками, отчего и получался чистый, необычайно приятный звук. Я тотчас начал прицеливаться объективом. Та муха, которая сидела на листике, отцепилась, они обе оказались на весу, и согласная песня стала в два раза громче. Пролетев так немного, одна из участниц дуэта опять ухватилась за край листика, но некоторое время не садилась, а продолжала подпевать партнеру. Было это очень красиво и поэтично. Еще раз пришлось пожалеть об отсутствии магнитофона; правда, записать довольно слабый звук было бы, наверное, очень трудно. А жаль. Кто б мог подумать, что мухи, пусть даже цветочные, способны на такое? Я и так и так пристраивался, волновался, понимая, что вряд ли подобную сцену можно увидеть часто, щелкал затвором довольно беспорядочно, особенно тогда, когда, притомившись, они обе посидели некоторое время спокойно. Ни на миг они не разъединялись. Наконец отдохнули и принялись петь с новыми силами. Так, с песней, и скрылись от меня в густых солодковых джунглях…
В книге П. И. Мариковского «Юному энтомологу» есть маленький рассказ о «странном колечке». Я привожу его с сокращениями.
«У большого плоского камня, лежавшего на дне ущелья, раздался странный звук, сильно напоминающий вой сирены. Этот звук начинался с низкого тона и, постепенно переходя на высокий, тянулся некоторое время, пока не прерывался внезапно, чтобы через некоторое время повториться вновь. Сходство с сиреной казалось столь большим, что можно было поддаться самообману, если бы не суровое молчание диких скал, совершенно безлюдного ущелья, пустынных гор, девственная, не тронутая человеком природа и ощущение, что этот загадочный и негромкий звук доносится не издалека, а где-то здесь, совсем рядом, у большого плоского камня, среди невысоких густых кустиков таволги и эфедры.
„Что бы это могло быть?“ — раздумывал я, с напряжением осматриваясь вокруг, и вдруг над поверхностью плоского камня увидел странное, быстро вертящееся по горизонтали колечко, от которого как будто исходил звук сирены. Продолжая стремительно вертеться, колечко медленно перемещалось в мою сторону. В это мгновение за камнем что-то громко зашуршало, зашевелились кусты таволги, и на щебнистый косогор выскочили две небольшие курочки с красными ногами и красноватым клювом…
Постепенно кеклики успокоились, и в ущелье снова стало тихо. Не было слышно и звука сирены, а на плоском камне было пусто. Впрочем, в центре камня сидела большая волосатая и рыжая муха-тахина, личинки которой часто развиваются на гусеницах бабочек и многих других насекомых; под тоненькой веточкой, склонившейся над камнем, примостился маленький зеленый богомол и, склонив набок голову, кого-то напряженно высматривал, а немного поодаль, на краю, близко друг от друга расположились две небольшие черные и блестящие мухи с ярко-белыми отметинами на груди и беспрестанно шевелили прозрачными крылышками.
Внезапно одна из мух закружилась в воздухе, за ней помчалась вторая, появился низкий звук сирены, еще быстрее закружились мухи, их очертания исчезли, и над поверхностью камня поплыло, медленно перемещаясь в разные стороны, белесоватое колечко… Это был совершенно необычный брачный полет.
…С тех пор никогда не встречалось белесоватое колечко и не приходилось слышать песню крыльев, похожую на звук сирены. И виртуозные пилоты остались неизвестными».
Встреча П. И. Мариковского со «странным колечком» состоялась в горах, в ущелье Караспэ, но все же описание пятнистых мух очень напоминает тугайных музыкантов. Может быть, они тоже кружили друг за другом, перед тем как от воя сирены перейти к нежной мелодии арфы?
Особенно я ждал встречи с фалангой. Одна знакомая женщина, долгое время жившая в Казахстане, рассказывала в Москве так:
«Самое страшное у нас — это фаланги. Громадные, длинноногие, — как пауки, только с клювом. Бр-р! Обязательно в дом забегают. На людей бросаются. Они прыгать умеют! А укусит — не дай бог. Умереть, может, и не умрешь, а намучаешься… Ужас!»
Естественно, что, бродя в окрестностях Ташкента, пока Розамат красил машину, я мечтал встретить это страшилище и, конечно, запечатлеть. Только однажды на высохших и растресканных буграх у реки Келес я увидел нечто быстрое, очень проворное, промелькнувшее в сухой траве с такой скоростью, что о фотографировании нельзя было и думать. Хотя страшилище это было всего сантиметров двух длиной и вполне могло оказаться каким-нибудь пауком, я все же решил, что это именно и есть маленькая фаланга. Не знаю, она это была тогда или нет, но уж здесь-то, на краю самой настоящей глинистой пустыни, я наверняка должен был ее встретить.
И вот на второй день утром, пока Сабир с Хайруллой готовили завтрак, Жора доставал из ящика коробки-гробики для своих пчел, а Розамат зачем-то стучал кувалдой по капоту машины, я прогулялся к зарослям чингила, а на обратном пути…
Шагах в двадцати от палатки было нечто вроде перекрестка. Здесь пересекались две дорожки: одна — идущая вдоль Сырдарьи и ныряющая в тугай, и другая — прибежавшая из пустыни к реке. У перекрестка горбился сухой, колючий, выжженный солнцем бугор. И я увидел, что по бугру стремительно несется нечто похожее на бледно-рыжий призрак. Не успев как следует разглядеть это прыткое существо, но чутьем поняв, кто это, я диким голосом закричал: