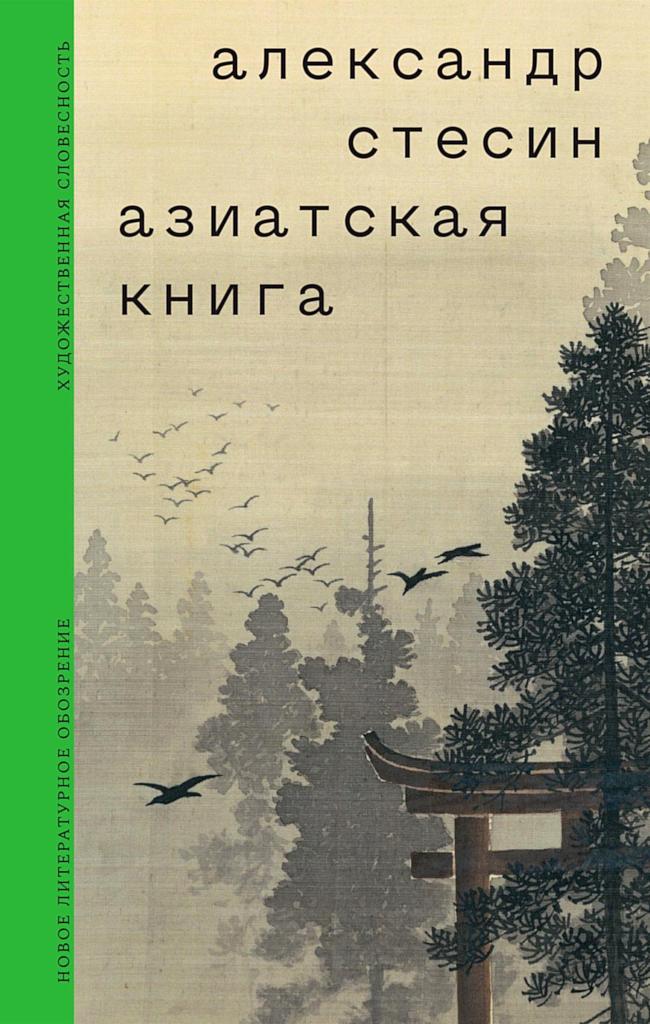class="v">рвущийся к небесам.
Где сообщаются поле, злак,
небо, земля и муж
и, превращаясь по капле в знак,
пересыхает тушь,
Воздух, уловленный языком,
воспоминаний бред
(там, где до боли мотив знаком,
боли самой уж нет)
Птица, дракон, черепаха, тигр,
их друг за дружкой ход.
Будто бы это — стрелковый тир,
память былых охот.
Знаки отличия: клык, рог, зуб.
…Бык, обезьяна, кот…
Будто бы это — китайский суп,
что подают раз в год.
Утро жизни длинной арией зевает.
Дочь сановника служанку подзывает,
отослать велит письмо размером с повесть,
никому не адресованное то есть.
И приходит ей ответ, на шелке злато:
Здравствуй, девица, души моей услада!
Если завтра, пробудившись, к речке выйдешь,
отражение в воде мое увидишь.
То волшебная, как водится, водица.
Отразиться в ней что заново родиться.
Заглянуть в нее что выглянуть наружу.
Но заглядывать не бойся. Часть потока,
ничего в судьбе текущей не нарушу.
Это только отраженье, это только
прежний свет, куда вернусь, как в воду кану,
и увижу сон, который снится камню;
и увижу, возвращаясь к павильону,
к прошлой жизни и цветенью полевому,
как лантерны зажигают по веленью
госпожи (возводят радугу павлинью)
в красном тереме, в пионовой беседке,
где зимой — маджонг и вышивка по сетке.
Где весной дымит жаровня, входит в окна
пряный жар. Тепла дрожащие волокна.
А на кане — зелье-снадобье, касторка,
взвар-настойка. Пахнет приторно, болотно.
В одночасье чахнет девица, красотка.
И письмо лежит. Не разобрать, как стерто.
То ли сутра на бамбуковой скрижали,
то ли мантра, чтобы впредь не воскрешали.
Как принять исчезновенье, отреченье?
…Отражение твое хранит теченье.
Птицы летят над хутуном по весне
в рай, где кормушки прилажены к деревьям.
Что-то, что было с тобой и мной во сне,
сон взял у спящего, пользуясь доверьем.
Хлопотно двигают мебель за стеной.
Тумбочек или сервантов рокировка.
Давний портрет, повернувшийся спиной.
Вместо затылка — бумага, датировка.
Что-то обещанное тебе забыл —
вряд ли во сне. Уж скорей в гостях по пьяни.
Стыд возвращенья, похмельной прозы пыл.
Крыши хутуна — уже на заднем плане.
Но тем старательней выверен пунктир
каждой детали, чем дальше друг от друга
и безвозвратней к зиме ведут пути
птиц и людей, в небо — клином, в воду — кругом.
Постановки про войну без передышек,
сцены прóводов, судьбу опередивших,
в новом зале смотрят сироты и вдовы,
в новом мире, где развалины готовы
встретить гибель, как встречают ветерана,
пережившего Пань-Гу, цингу, тирана,
наводнение и смуту в Поднебесной…
Совершенномудрый дух парит над бездной.
Было Долею небесной, стало долькой
в черном небе над хутуном; было долгой
подготовкой к возвращению в пенаты,
где зачисленный в живые экспонаты
новобранцам крутит хриплую шарманку:
сколько люду порубал за правду-мамку, —
по столу стучит костяшкой, — за идею…
Правда-маска прирастает к лицедею.
Сетью трещин и морщин идет по коже.
Так прощай, моя наложница, похоже,
зря талдычили, что время иллюзорно,
но закапывали деньги или зерна
и считали дни в согласье с ритуалом,
укрываясь то прозрачным «ци», то алым
полотнищем революции бездетной…
Через годы образ видится везде твой.
Для вернувшихся, судьбу опередивших,
терракотовых отрядов поредевших
прозвучит в последний раз команда сверху.
И старательные всхлипы скрипки эрху
перекроет сцена битвы, ловли, травли
под мяуканье струны и лай литавры;
и финал — в пандан ракушечному горну…
Звук наполнит тьму и примет ее форму.
Романтик Ли Бо и Ду Фу, моралист,
и вся королевская рать.
Вот падает лист, и еще один лист.
И некому листья собрать.
И делают в парке ушу старики
под кваканье песен from home.
И ели на синих холмах далеки
настолько, что кажутся мхом.