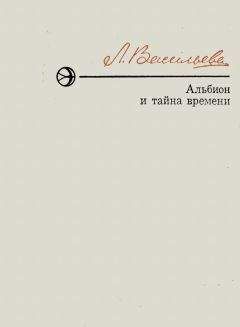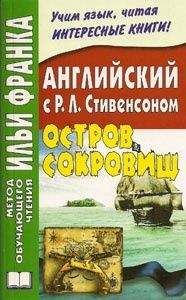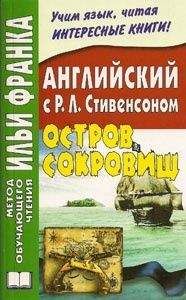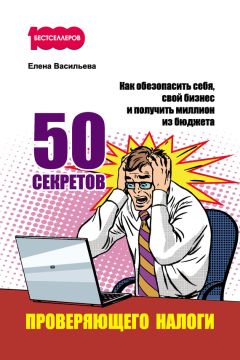Как ни странно, один лишь мистер Бративати долго ворчал и ломался, говоря, что стар, устал и хочет спать. Я уже готова была пожертвовать им, да вовремя вспомнила, что старый индиец всегда говорит одно, а делает совершенно другое.
Приятель Гленна, его жена и один из красавцев братьев пошли с нами.
Первой мы навестили Пегги, в которой я не сомневалась. Успех с нею непременно должен был придать мне храбрости в моем, мягко говоря, странном начинании.
Как я и ожидала, у Пегги толклись друзья. Все вместе мы минут пять кричали, шумели, перебивая друг друга, и докричались до того, что, собрав всю компанию, отправились на Трафальгарскую площадь, где в новогоднюю ночь собирается народ со всего города. И впрямь ночные улицы, обычно мертвые в своем добропорядочном сне, были оживлены. Обгоняя друг друга, со смехом, шутками, песнями шли люди в сторону центра. В большинстве это была молодежь. И не только шли. Улицы были запружены автомобилями. Казалось, весь город бодрствует, как днем. Таким я никогда еще не видела Лондона.
«Не такой уж я первооткрыватель, — приходило мне в голову, — видимо, не мне одной хочется соединения несоединимого».
В компании Пегги, среди знакомых мне людей была — о, ужас, негритянская пара. Прежде я их не видела в доме Пегги. С некоторой опаской поглядывала я поначалу в сторону приведенных мною ирландцев, но ничего ужасного не произошло. Не могу сказать, что они не заметили негров, но мне казалось, что они не замечают, что эта пара — негры. Во всяком случае, прежнего фасона они не держали.
Бледнолицый Антони уже ждал нас у дверей своего дома, сказав, что жена и дети спят, а он готов гулять хоть до утра. Должна сознаться, что смущение Антони в присутствии Пегги я заметила давно, но никогда не давала ему понять этого. Антони был слишком корректен и не допускал лишних слов.
Мистер Бративати, недавно недовольно ворчавший по телефону, радостно завел шумную орду в свою крохотную квартирку и быстро напоил всех каким-то сладким тягучим зельем, от которого те, кто был трезв, слегка опьянели, а кто был под хмельком, стали чуть трезвей. Он потащил за собой в наш поход жену, во та, пройдя два квартала, разохалась, стала жаловаться на какую-то железу и тихо исчезла у поворота.
Леа Арнольд встретила нас разнаряженная и, захлебываясь от радости, твердила, что счастлива, счастлива проболтаться всю ночь, это так нужно, так необходимо для вдохновения, так необыкновенно…
Мистер Вильямс без лишних слов снабдил всю компанию тремя бутылками отличного сухого «шерри». Оно тут же было раскупорено, и невесть откуда появившиеся бумажные стаканы отлично заменили прозрачные рюмки с тонкими талиями, в которых англичане обычно пьют свой «шерри».
Какую, однако, огромную толпу удалось мне собрать! Иногда, по дороге, я, прервав разговор, чуть отставала и поглядывала на свой дружный полк со стороны издали; потом бежала, догоняя, и шла не по тротуару, а по мостовой, сбоку, как собака, охраняющая стадо. Впереди оставалась миссис Кантон.
Достойнейшая особа, мудрейшее существо — она сразу поняла мою затею, но, не моргнув глазом, пригласила всех к себе и предложила — бьюсь об заклад, что впервые в жизни, — предложила всем чаю. Это в два-то часа ночи! Вопреки своим принципам — все делать вовремя!
— Дура, — шепнула она мне, протягивая чашку очередному желающему, — сумасшедшая. Я, конечно, поплетусь с вами. В конце концов, я ведь была когда-то молодой. Неужели же мне нечем тряхнуть?! Притом любопытно поглядеть — чем кончится ваша кутерьма.
Острым взором очевидца окинула она всю ту часть компании, которая попала к ней в дом, — часть оставалась ждать на улице. Не ускользнули от ее взора пожилой индиец и старый клерк, тихо между собой переговаривающиеся.
К половине третьего вся компании достигла Трафальгарской площади.
Откуда столько света? Да, тысячи лампочек на новогодней елке, огромном дереве, раскинувшем, солидные, пушистые лапы за колонной Нельсона, под балюстрадой, чуть ближе к правому углу балюстрады, если смотреть на площадь, стоя лицом к Национальной галерее. Тысячи лампочек на фасадах зданий, составляющих площадь. Фейерверки — нежданные, негаданные, непланированные, то там, то там над толпами, текущими и колышущимися, запрудившими площадь и артерии, что ведут к ней… Ах, алая комета фейерверка! Ах, зеленая, желтая, фиолетовая! А вот и целый сноп! При каждом взлете волна вскрика по площади — острая, гулкая, цветная волна. Бенгальские огни, шипящие брызги и визги тех, кто оказался вблизи этих брызг, И снова волна с перекатами крика. Смех, взволнованно-горячий плотский смех…
И все же — откуда столько света?
Ах, знаю. Его излучают глаза. Как же я раньше этого не замечала? Искры всего того, что есть в нас, в каждом — искры доброты, веселости, искренности, отпущенные каждому Природой в той мере, в какой она не поскупилась на каждого; порой неосознанные, порой уж очень осознанные, состояния радости жизни — уж если они не светлы, не светом выплескиваются из нас, из двух окон, откуда мы смотрим на мир, то что же тогда?!
Они самые — глаза, очи, окна, фонари, источники света — ими сейчас освещена и осветлена набитая народом Трафальгарская площадь.
— Не потеряться бы в толпе, — сказала рассудительная миссис Кентон, — здесь, я вижу, почти весь город. Как странно, прежде не было этой традиции стекаться в новогоднюю ночь к Трафальгарской. Странно… Так вот, мы потеряемся, повторяю…
— Ничего, — откликнулся мистер Вильямс, — каждый знает свою дорогу домой. — И поплотней прижал к себе локоть мисс Арнольд.
Правда, мы все потерялись, едва лишь слились с толпой. Она закружила и разнесла на щепки мой корабль.
Это был какой-то общий безумный, неоглядно счастливый танец жизни. Откуда-то гремела музыка, все время меняясь в характере: то темпераментно-быстрая, то нежно-воркующая, то брызжущая весельем, то грусти полная. Откуда была она и была ли в самом деле, может быть, чудилась мне? Но если мне чудилась, то и другим тоже — люди неслись в пляске, кружаясь и замедляя бег, неслись, сталкиваясь и разлучаясь, не успев встретиться.
Сотни лиц — белых, черных, желтых, бронзово-красиых — мелькали и проносились, оставляя одно впечатление непреходящей ослепительной улыбки счастья.
Неужели в них может жить злоба и ненависть, расовые предрассудки и позор неприятий?
Какое-то время рядом со мной плыли Леа и мистер Бративати. Они о чем-то спорили. Могу себе представить — старик пытался заморочить голову разумной и трезвой женщине. Скоро я потеряла их.
Миловидный юноша-индонезиец, оказавшись рядом со мной, закружил меня в танце, и я зачем-то узнала, что он живет в Лондоне со дня рождения, а отец его родом из Джокъякарты. Сам юноша хочет попробовать силы в большом торговом бизнесе. Он смеялся довольно, освобожденно. — Русская, как удивительно, русская! — повторял он то ли с недоумением, то ли с восторгом. — Никогда не видел русских!