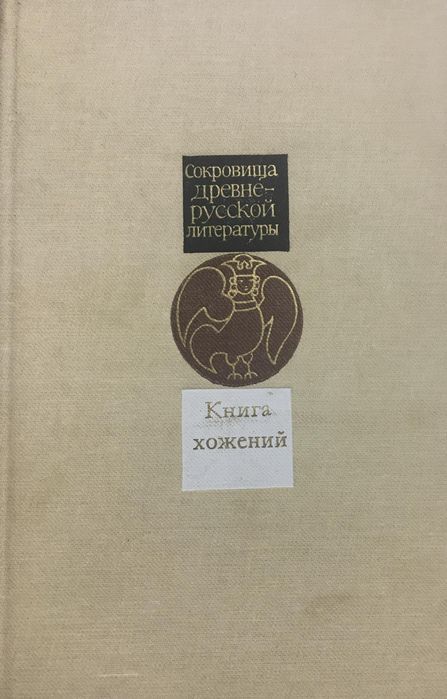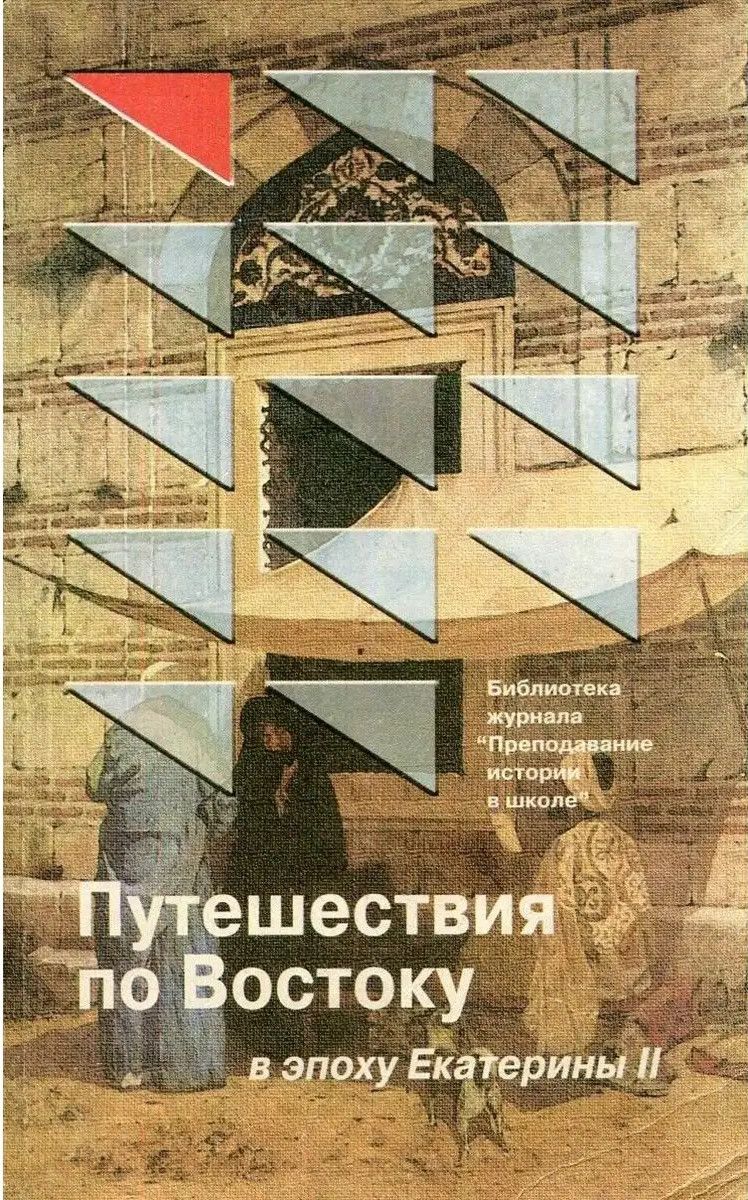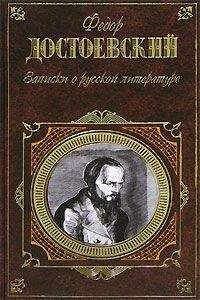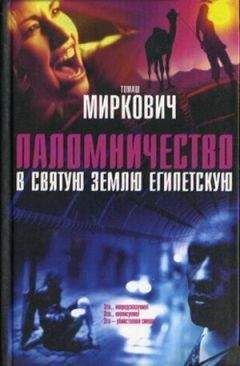поближе к городским стенам — те же улицы, только пустее, безмолвнее. Есть и такие, где разве один раз в день встретишь человеческую фигуру. У самых стен, особенно в направлении к Сионским воротам, и еще вправо и влево от Дамасских, поражает зрелище незастроенных пустырей, покрытых камнями, мусором, навозом. Кое-где, на таких пустырях, зрится два-три немудрых деревца, но и они уже оживляют картину, и под иным, смотришь, сидит какой-нибудь старый турок и курит длинную трубку. Конь привязан возле. Сердито взглянет на вас этот турок, если вы начнете его студировать глазами, и проворчит что-нибудь такое, от чего бы не поздоровилось франку, если бы только услышать и понять это как надо. Но, во-первых, не слышно; а во-вторых, если бы вы и услышали, не поняли бы ничего, как иную крючковатую надпись на мечети или фонтане.
В других местах пустыри покрыты огородами, с дополнением, по краям, рослых колючих кактусов. Все это, если копнуть, окажется большею частию навозом, современным Бог знает каким временам и событиям. Поройте поглубже, наткнетесь, как на русском участке, на древнюю стену. Нередко, на ином сорном бугре, равняющемся вершиной со стенами (так, где ворвался Летольд Турнайский, путник может трогать зубцы стен рукою) увидишь кучу собак, занятых дележом падали. Пишущий эти строки набрел однажды сам, в своих прогулках внутри города, на целого, дохлого верблюда.
Таково настоящее печальное управление святым городом! Но кто в том виноват — вопрос трудный. Паша (живущий в местности, которая носит имя сераля, то-есть дворца, где присутственные места, духовное судилище — мягкеме, светское судилище — мижлис, и острог), можно сказать, ничего не делает, а только набивает карман бакшишами, поступающими из разных источников. В то время, которое мы описываем, он был несколько занят переделкой купола. Ему тоже нельзя упустить при этом своих турецких интересов. Иначе он потеряет место, а с ним бакшиши и право разгуливать по базару как теперь разгуливает. Он беспрестанно посылает то за муфтием, то за кадием, видится и с греческим патриархом, и с латинским реверендиссимом, и Абдалла-эффенди нередко подымается на высокое крыльцо сераля, откуда виден двор мечети Омара как на ладони.
Европейские консулы не вмешиваются в управление городом. Им и без того куча всяких хлопот, больше всего с поклонниками: займись каждым, покажи ему все, что можно показать. Заболел кто-нибудь, смотри, как бы не помер; а помрет — описывай подробно имущество, выпарывай из всякого ветхого трепья зашитые туда золотые монеты, приводи в известность все, составляй акт, пиши в Россию, или куда там...
У русского консула чуть ли не больше работы, чем у всех других, потому что у него больше поклонников. Последнее время их стало валить около сотни в сутки [27], потому что открылось пароходное сообщение между Яффой и Одессой, неимоверно облегчившее путь и сократившее издержки. Сверх обыкновенной возни с этим народом, прибавились странные заявления шушунов и тулупов о каком-то царском миллионе, якобы для них ежегодно отпускаемом из казны.
Этот нелепый миллион взялся из того, что на постройки, о которых читатель не раз слышал, было ассигновано первоначально близ «миллиона рублей». Разные старухи, услышав об этом в Иерусалиме, пронесли по всей России, а из России весть перебралась и в Сибирь. Народ ринулся массами получать каждый свою долю. Архиерей рассказывал нам, что один солдат пришел из Иркутска, с девятью рублями в кармане, и просил помочь ему из того миллиона, который Царь отпускает на Иерусалимских поклонников.
— А сколько в России войска? спросил у него архиерей. Солдат, не подозревая к чему клонится дело, отвечал:
— Говорят, миллион будет.
— Вот видишь: миллион! подтвердил архиерей. — Ну как все храбрые солдаты захотят поклониться Гробу Господню, один вслед за другим, как и ты; о всех о них следует помнить! Возьми же свой рубль, помолись и отправляйся с Богом восвояси. Я устрою, чтобы тебе дан был от Яффы до Одессы даровой билет, на палубе.
Подобных историй было довольно. Иные бабы осаждали дом, где жил архиерей, и когда он выходил на улицу, требовали самым назойливым образом вознаграждения из царского миллиона. Надо знать, что это за бесцеремонный народ! Архиерей принужден был иногда решительно притаиваться. Ожидая миллиона и думая, что их все обманывают, проводят, поклонники заживались в Иерусалиме, впадали в праздное и соблазнительное препровождение времени, проживали все деньги и потом — бух где-нибудь властям в ноги: «Батюшка! Заставь за себя Богу молить! Так и так, неимущий странник, сирота, дошел до того, что ни гроша за душой, а нужно в обратный путь!»
Хлопот с ними было столько, что консул написал в Россию, прося установить какие-либо правила относительно выдачи паспортов богомольцам простого звания и назначить определенный термин пребыванию их в Иерусалиме. На основании этого, губернаторам было предписано выдавать паспорты на путешествие ко Святым Местам только тем лицам низших сословий, кто представит доказательство, что имеет не менее полутораста рублей серебром. Срок же пребывания их в Святом граде ограничили «двумя неделями». Это восстановило некоторый порядок. Никто не мог произвольно заживаться в Иерусалиме, благо есть даровое помещение и чья-то о тебе забота! Позволено было остаться только двум солдатам, с давних пор варивших для православных квасок. В этом чувствовалась потребность простому русскому человеку. Уж было сказано, что простой русский человек, прибывая в Палестину, приносит с русскими сухарями и русские понятия. Смотря на небо, не дающее несколько месяцев сряду дождя, он приписывает это ни чему иному, как гневу Божию: «Вот прогневался Господь, и дождя не дает!» Взглянув на народ, идущий в Вифлеем, под Рождество, непременно заметит: «Миру-то, миру-то что валит!» И сам присоединяется к этому миру. Прислушайтесь к его речам в лавке вифлеемскаго резчика печатей, либо жида, делающего жестянки для иорданской воды, которую заносит поклонник в глубь России и лечит ею все недуги; не то к объяснениям с вифлеемскою бабой, торгующею четками, крестиками и образками, — на желтых плитах, пред храмом Гроба Господня; он везде один и тот же, простой русский человек, режет по-русски, как бы в Москве, в Ножовой линии, и его понимают. Ему вообще хорошо в Иерусалиме, да вот только бы дождичку, да кваску! Дождь не слушается, нейдет по-русски; а насчет кваску Господь услышал молитву православных, послал сказанных двух солдатиков, которые, поладив очень легко с турецкою полицией (здесь, как и в Яффе, совсем не видной на улицах и базарах), устроились под аркой древних ворот, на бойком месте, поставили две большия кади, приладили скамеечку, чтобы на