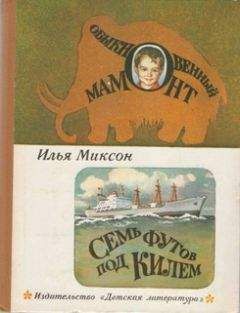I
«Уилли-Уо» стоял в проливе за внешним рифом; тихо рокотал ленивый прибой, а узкая защищенная полоса воды, шириной не более ста ярдов, считая от рифа до белого берега, усыпанного коралловым песком, была гладкой как зеркало.
«Уилли-Уо» стоял на самом мелком месте узкого пролива. Его якорная цепь растянулась футов на сто в длину и была видна сверху донизу над кораллами дна.
Точно исполинская змея вилась она в воде океана, оканчиваясь бесполезным якорем. Крупная треска, темная и пятнистая, осторожно проплывала между кораллами. Другие рыбы причудливых форм и окраски были дерзко равнодушны даже тогда, когда громадная акула лениво скользила мимо них и загоняла треску в ее любимые расщелины.
На носовой палубе двенадцать чернокожих неуклюже скребли перила из тикового дерева. Они возились с неловкостью обезьян. Они и вправду походили на обезьян крупной доисторической породы. Жалобно, по-обезьяньи моргали их глаза; лица их были даже более асимметричны, чем у четвероруких, и их голые тела, лишенные шерсти, казались более нагими, чем тела обезьян. Зато разукрашены они были, как никогда не снилось обезьянам. В их ушах виднелись короткие глиняные трубки, черепаховые кольца, деревянные палочки, заржавленные гвозди и пустые патроны от винтовок. Самые маленькие отверстия в ушах соответствовали калибру винчестерской винтовки; самые большие имели до дюйма в диаметре. В ином ухе было от трех до шести отверстий. Иглы и шпильки из полированной кости или окаменелых ракушек пронзали их носы. У одного на груди висела белая дверная ручка, у другого — осколок фарфоровой чашки, у третьего — колесико от будильника. Они забавно щебетали пискливыми голосами, а вся их суета едва ли равнялась работе одного белого человека.
На корме под тентом сидели двое белых. Они были одеты в шестипенсовые фуфайки, опоясанные шерстяными поясами. У каждого за поясом был револьвер и кисет с табаком. Пот выступил на их коже тысячами мелких капелек. Капельки сливались кое-где в маленькие ручейки и, падая на раскаленную палубу, моментально испарялись. Худощавый человек с черными глазами смахнул мокрыми пальцами со лба едкие струйки пота и отряхнул пальцы с ленивым ругательством. Устало и безнадежно смотрел он на море через внешний риф и на вершины пальм, росших на берегу.
— Восемь часов, а настоящее адское пекло начнется в полдень, — жаловался он. — Хоть бы какой-нибудь ветерок! Неужели мы никогда не выберемся отсюда?
Другой человек, стройный немец, лет двадцати пяти, с широким лбом ученого и выдающимся подбородком дегенерата, не побеспокоил себя ответом. Он сыпал порошок хинина в папиросную бумагу. Завернув гран пятьдесят в плотный комочек, он сунул лекарство в рот и проглотил, не запивая водой. Четверть часа продолжалось молчание.
— Если бы достать немножко виски! — проговорил первый.
Прошло еще около четверти часа, и немец ни с того ни с сего сказал:
— Меня грызет лихорадка. Я брошу вас, Гриффитс, как только мы придем в Сидней. Довольно мне тропиков! Нужно было мне побольше разузнать о них, когда я подписывал с вами контракт.
— Неважный вы штурман, — возразил Гриффитс, слишком распаренный зноем, чтобы говорить более резко. — Когда на Гувутском берегу узнали, что я беру вас, все подняли меня на смех. «Что? Вы берете Якобсена? — говорили они. — Вы от него не спрячете не только ни одной бутылки джина, но даже и серной кислоты… сейчас же унюхает». И вы, разумеется, прекрасно оправдали вашу репутацию: вот уже две недели, как у меня во рту не было ни капли, — все запасы иссякли.
— Если бы вас так же трепала лихорадка, как меня, вы бы поняли, — простонал помощник.
— Я не корю вас, — отвечал Гриффитс, — я только говорю: послал бы Бог выпить малость или ветерок бы, что ли, подул. Чувствую, завтра начнет меня озноб трясти.
Помощник предложил ему хины. Скатав пилюлю в пятьдесят гран, Гриффитс сунул ее в рот и проглотил, ничем не запивая.
— Господи, Господи! — стонал он. — Как я мечтаю о такой стране, где не знают хины. Проклятое изделие ада! На своем веку я проглотил ее целые тонны.
Опять он уставился в море, надеясь заметить хоть какие-нибудь признаки ветерка. Обычных пассатных облаков не было, и солнце, поднимаясь все выше, превращало небо в пламенеющую медь. Зной не только ощущался, но его можно было видеть, и напрасно вглядывался Гриффитс в береговую линию, ища облегчения. Белый раскаленный берег резал глаза острой болью.
В полной неподвижности стояли пальмы, вырисовываясь на блеклой зелени джунглей, как декорация, вырезанная из картона. Маленькие чернокожие мальчики, совершенно голые, играли в этом ослепительном блеске песков и солнца, и Гриффитсу, страдающему от солнца, было оскорбительно и больно глядеть на них. Гриффитс испытал своего рода облегчение, когда один из мальчиков, разбежавшись, внезапно споткнулся, упал и пополз на четвереньках к теплой морской воде.
Восклицание среди чернокожих, работавших на палубе, заставило двух белых взглянуть в сторону моря. Длинный черный челнок выплывал из-за рифа.
— Гумские ребята из соседней бухты, — решил помощник.
Один из чернокожих прошел на корму, ступая по горячей палубе с непринужденностью, показывавшей, что его босые ноги не чувствовали ожогов. Это тоже оскорбило Гриффитса, и он закрыл глаза. В следующее мгновение он их, однако, широко открыл.
— Белый хозяин с ребятами из Гума, — сказал чернокожий.
Оба белых, встав, пристально глядели на челнок. На корме ясно виднелось сомбреро, принадлежавшее белому. На лице помощника мелькнула тревога.
— Это Гриф, — произнес он.
Гриффитс внимательно вгляделся и с раздражением выругался.
— Что ему тут надо? — спросил он у помощника, у сверкающих моря и неба, у немилосердно палящего солнца, у всей сверхнакаленной неумолимой вселенной, с которой сплелась его судьба.
Помощник захихикал:
— Я говорил вам, что вы не уйдете от этого.
Но Гриффитс не слушал.
— Со всеми своими деньгами он так и ходит кругом да около, точно сборщик податей, — продолжал Гриффитс в порыве злобы. — Он засыпан деньгами, он набит деньгами. Он чуть не лопается от денег. Вернейший факт, что он продал свои плантации в Иринге за триста тысяч фунтов. Сам Белл сказал мне это, когда в последний раз мы кутили в Гувуту. У него миллионы и миллионы, а он как Шейлок пристает ко мне из-за ломаного гроша. Ведь вы мне это говорили, — набросился он на помощника. — Ну, что же, продолжайте, говорите! А что, собственно, вы мне сейчас хотели сказать?
— Я говорил вам, что вы его не знаете, если думаете, что можете удрать с Соломоновых островов, не заплатив ему. Гриф — дьявол, но в нем есть прямота и своя справедливость. Я знаю. Я говорил вам, что ради потехи он готов сорить тысячами, а из-за каких-нибудь шести пенсов будет драться, как акула из-за ржавой жестянки. Говорю вам, что я знаю его. Разве он не отдал «Балакулы» Квинслендской миссии, когда она потеряла «Вечернюю звезду» в Сан-Кристобале? А «Балакула» стоила три тысячи фунтов, а не два-три пенса. И не избил ли он Строзерса так, что тот две недели лежал в постели, за недостачу двух фунтов десяти шиллингов при расчете?