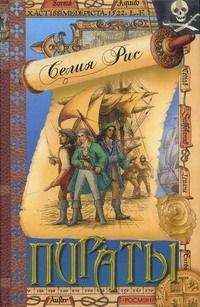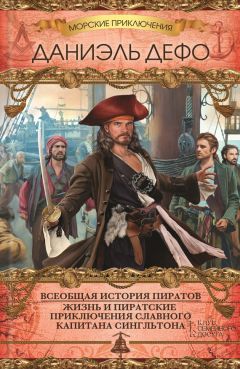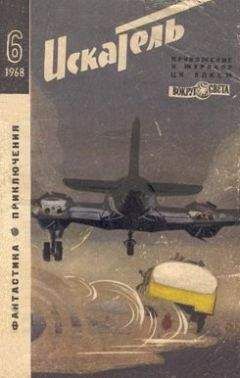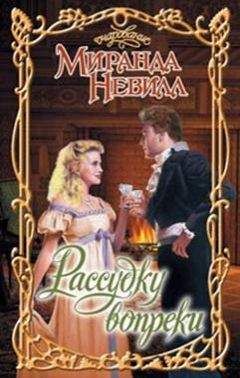— Уильямом? Ну и что с того? Каждого второго моряка зовут либо Биллом, либо Джоном! — напомнила я его собственные слова, сказанные им давным-давно.
Брум тоже вспомнил и усмехнулся.
— Послушай меня, Нэнси, — сказал он, — я уже принял решение. Как только доставим их на Мадагаскар, я разворачиваю корабль и возвращаюсь домой. Почему бы тебе не отправиться с нами?
Я долго молчала, собираясь с мыслями. Мне ужасно хотелось вернуться в Англию и отыскать Уильяма, но разве могла я оставить Минерву, самого близкого и родного мне человека на свете? Если мы с нею сейчас расстанемся, то можем никогда больше не увидеться!
Брум заметил мои колебания и правильно их истолковал.
— У нее есть теперь Винсент, а скоро будет и ребенок, — напомнил он. — У нее все хорошо. Ей не нужна другая жизнь. А тебе нужна! Ты принадлежишь другому миру, и Минерва поняла это гораздо раньше тебя. Не пора ли и о себе позаботиться, Нэнси? Ведь жизнь так коротка и быстротечна, что грех тратить ее впустую. Ты все еще носишь его кольцо на шее?
Я молча кивнула.
— Думаю, с такими деньгами нам будет не так уж сложно найти в Королевском флоте моряка по имени Билл, — усмехнулся Адам. — Ты получишь своего Уильяма, детка, даже если для этого придется купить ему адмиральский чин и эскадру в придачу!
Я так и не придумала, что сказать Минерве. Всю ночь до самого рассвета я провела на палубе, разрываясь надвое и мучаясь сомнениями. А времени для принятия решения оставалось все меньше. Еще до полудня мы будем на месте, и задерживаться с отплытием Брум не станет даже ради меня. Сейчас или никогда! Но как объяснить сестре? А может, все-таки остаться? Внутренний голос приводил убедительные доводы в пользу то одного выбора, то другого, а за спиной между тем восходило солнце, окрашивая своими лучами небо и море в розовые и фиолетовые тона. Я же видела перед собой только темную полосу береговой линии и отдаленный горный кряж, затаившийся, как зверь в засаде, за дымкой утреннего тумана.
Она вдруг возникла рядом со мной, словно материализовавшись в ответ на мои противоречивые мысли. Лицо заспанное. Волосы растрепаны. Рубашка с чужого плеча. Штаны тоже чужие, подпоясанные наспех, чтобы не спадали, широким кожаным ремнем.
— Сегодня мы расстанемся, я знаю, — сказала она так просто и буднично, что у меня ёкнуло сердце. Я попыталась что-то сказать, но Минерва жестом остановила меня: — Не надо печалиться. И хватит страдать. Мы с тобой и так достаточно натерпелись! Времени у нас мало, поэтому не стоит тратить его на всякие глупости. Слушай, что я скажу. Я согласна с Брумом и доктором, что ты должна уехать. Я понимаю, почему ты хочешь остаться, но если ты так поступишь, нам обеим будет плохо. Мне, потому что плохо тебе, а тебе — потому что сердце твое рвется к Уильяму. Ты ведь по-прежнему любишь его, верно? Вот и отправляйся к нему!
— Брум утверждает, что он меня ждет, — заметила я нерешительно. — Но откуда мне знать, правду он говорит или нет?
— А зачем ему врать?
— Кто его разберет? — пожала я плечами. — Есть у него такая привычка: говорить людям то, что они сами больше всего хотят услышать.
— Пусть даже так. Дело не в этом. Тебе пора, наконец, преодолеть свои страхи, Нэнси! Вот с чем тебе надо бороться прежде всего. Ты боишься покинуть меня, потому что боишься испытать разочарование, вернувшись домой. Разве не так?
Я неохотно кивнула. Мне было стыдно смотреть ей в глаза. Прав был Брум: Минерва знала и понимала меня гораздо лучше, чем я сама!
— Помнишь, как ты дрожала, когда нас принимали в Береговое братство? — продолжала она. — А свой первый абордаж помнишь?
Я невольно усмехнулась:
— Еще бы не помнить!
— Тогда ты сумела превозмочь свой страх. Так что же тебе мешает повторить это сейчас?
— Сейчас другое дело.
— Ничего подобного! Все страхи одинаковы. Отправляйся с Брумом, очень тебя прошу. Рискни снова перейти черту, как уже сделала однажды. Вместе со мной. — Минерва на минуту умолкла, вглядываясь в очертания приближавшейся земли. Туман рассеялся, обнажив красноватые склоны протянувшейся вдоль берега холмистой гряды, поросшей редкими деревьями. — Мы были вместе тогда, останемся вместе и впредь, сколько бы миль ни пролегло между нами. Мы сестры, Нэнси, и любим друг друга, а для любящих сердец расстояний не существует! И потом, кто знает, вдруг в один прекрасный день я увижу твой парус на горизонте и ты войдешь в мой дом и увидишь меня и моих детей — твоих племянников и племянниц.
Мы обе рассмеялись, представив эту идиллическую картину семейного счастья, и у меня сразу полегчало на душе. Слова ее подарили мне надежду, словно пролившись благодатным дождем на пустынную почву или наполнив после долгого штиля свежим ветром уныло обвисшие паруса.
По сути дела, нам больше не о чем было говорить. Главное было сказано, а все остальное уже не имело значения. Мы просто стояли и молчали, ее пальцы поверх моих на поручнях фальшборта. Корабль пробуждался. Со шканцев послышались чьи-то команды, суетливо забегали матросы, полезли на ванты убирать паруса марсовые, рулевой закрутил штурвал, разворачиваясь в сторону гавани, где нам предстояло расстаться, и только тогда мы, спохватившись, стали прощаться.
— Я найду Уильяма, — пообещала я. — И Филлис тоже. А потом мы все вместе навестим тебя. И твои дети будут играть с моими.
Минерва широко улыбнулась и кивнула, всем своим видом показывая, что ни минуты в этом не сомневается.
— Возьми, это тебе. — Порывшись в кошельке, я достала и протянула ей рубиновые сережки. — Хотела еще вчера тебе их отдать. Бери, бери, это мой свадебный подарок!
Она взяла серьги и поднесла к глазам. В лучах утреннего солнца камни ожили и загорелись раскаленными углями, отражаясь в гранях друг друга. Минерва вдела одну в мочку уха, а вторую вернула мне.
— Одну будешь носить ты, другую я. Так мы будем чаще вспоминать и скорее встретимся. Постой, я сейчас. — Отлучившись на минутку, она вернулась с бутылкой рома и парой оловянных кубков. — Предлагаю выпить за молодость и свободу.
— За молодость и свободу! — эхом повторила я старый пиратский тост.
— А еще за удачу и добычу! — со смехом добавила сестра.
— И за это тоже, — согласилась я.
Мы чокнулись, выпили до дна и выбросили оба кубка за борт. Облокотившись о фальшборт, Минерва повернулась ко мне в профиль, и лицо ее на грани света и тени приобрело вдруг совершенные черты классической греческой статуи. Одинокая сережка светилась алым на фоне ее бархатистой кожи цвета молочного шоколада, слишком просторная для нее белая рубаха то надувалась, то опадала, распущенные черные волосы развевались на ветру. Такой я ее запомнила, и образ этот до сих пор стоит у меня перед глазами.