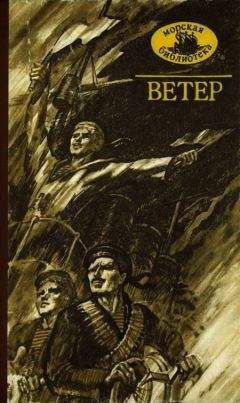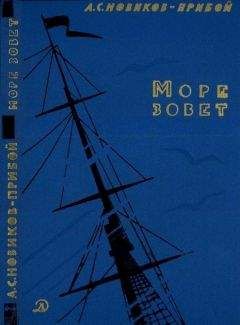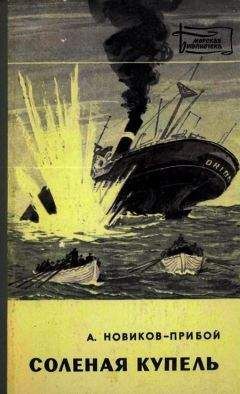Первый отрывок из рукописи Гарта о Шмидте назывался «Старый аптекарь».
«Что я тогда пережил! Разве я могу рассказать вам это сейчас, когда мне уже семьдесят пять лет и я жалею, что в Севастополе нет крематория. Пусть меня сожгут, а пепел спрячут в фаянсовую аптекарскую банку с надписью: „Tinctura vaierianae“, потому что как раз валерьянки мне всю жизнь не хватало. Я имел занятие волноваться из-за всех людей, из-за каждого дифтерита и каждой рубленой или огнестрельной раны.
Такая наша профессия — присутствовать при человеческих несчастьях и брать за спасение недорогую цену по таксе.
Ну, однако, Шмидту, я единственный в Севастополе отпускал лекарства бесплатно и до сих пор горжусь этим.
Что я тогда пережил! Вы спросите, что я пережил, когда пришла со службы младшая дочь, села вот здесь на стул и заплакала.
— Что с тобой, Люся? — спросил я и пошел за валерьянкой. Пока я капал ее в стакан с переваренной водой и волновался, она успела мне ответить:
— Пришла телеграмма адмиралу Чухнину. Она уже ходит по всему городу. Я переписала ее. На, прочти!
Она протянула мне листок бумаги, и я прочел эти слова, — лучше бы я их не читал никогда в жизни:
„Прошу отдать мне тело казненного брата. Анна Избаш“.
Избаш — это сестра Шмидта.
„Все кончено! — сказал я себе, сел на стул и забыл дать Люсе валерьянку. — Все кончено, Вайнштейн! Они убили его!“ — повторил я и бросил стакан на пол.
Что я должен был делать, аптекарь и больной старик? Что, я вас спрашиваю? Что я мог, когда вся Россия молилась на него, а спасти его не сумела.
„Вот страна, — думал я, — будь она проклята до скончания века!“ И я плакал, как может плакать только еврей. Чтобы научиться так плакать, надо сотни лет мучиться и вытирать плевки и кровь с лица, как это делали мы, — евреи. Сотни и тысячи лет!
Вы спрашиваете, знал ли я Шмидта до его речи на кладбище? Нет, не знал. И мало кто его знал в Севастополе. Он взорвался, как динамит.
Было восстание на „Потемкине“, потом восстание на „Пруте“, но я не слыхал его имени по этим делам. Потом началась революция, и Николай придумал свой замечательный манифест о свободах. Я так считаю, что он был придуман исключительно для аптекарских учеников. Почему? Потому, что они приезжали в город из местечек, ходили по улицам с открытыми ртами и верили даже околоточным надзирателям. Молокососы и дураки! Так в то время почти вся Россия была, как аптекарские ученики!
Мы, представьте, поверили в манифест и обрадовались, что наконец дождались Государственной думы. А она нам, откровенно, была нужна, как мертвому банки.
Начались митинги. Сколько было митингов! И на Екатерининской, и на Приморском бульваре, и где хотите.
После митинга на Приморском бульваре мы пошли к тюрьме освобождать политических. Я тоже ходил. И адмирал Чухнин нам устроил хорошую мышеловку. Ворота тюрьмы открылись, и вместо освобожденных товарищей, как мы ждали, в нас начали бить залпами. Восемь человек убили, а сколько ранили — я, теперь не припомню.
Тогда я чуть не задохся от злобы. Чухнин! Вы не можете представить, как „любили“ этого человека.
Он был довольно плюгавый адмирал, с бородой, как пакля, крикливый, с камнями в печени и желчью в голове. Пока его не трогали, он очень храбрился, даже ходил по городу пешком. Знаете, если бы опросить весь Севастополь, восемь из десяти были бы за то, чтобы его убить, как собаку. Но что я мог сделать Чухнину, что, я вас спрашиваю? Ничего существенного!
Но и я, Вайнштейн, испортил ему немного крови. Он приезжал лечить зубы к моему соседу по квартире, дантисту Новицкому. Я зашел к Новицкому как будто по зубным делам и незаметно положил в карман адмиральской шинели — она висела на вешалке в передней — кучу прокламаций! И каких! В одной было напечатано черным по белому:
„Палач Чухнин! Знай, что близок час, когда наша рука не дрогнет набросить тебе петлю на шею! Помни, что час расплаты близок, и этот час будет ужасен. Эту листовку пишут матросы, принадлежащие к партии социал-демократов“.
Воображаю, какое веселое чтение имел Чухнин в тот день у себя за чаем!
Погодите, я все никак не дойду до Шмидта.
Через день убитых хоронили. Никогда еще Севастополь не видел такой толпы, столько красной и черной материи и цветов.
На кладбище я первый раз увидел Шмидта. Это был морской офицер, высокий и бледный. Глаза у него горели, как у пророка.
Он встал над могилой и начал говорить. Было тихо, будто люди боялись дышать. Он говорил так, что каждое слово било, как пуля, в грудь человека. Его прекрасный голос слышал весь Севастополь.
Что он сказал? „Клянемся этим убитым в том, — сказал он, — что мы никогда не уступим никому ни одной пяди завоеванных нами человеческих прав“.
Он поднял руку и громко сказал: „Клянусь!“ И мы все, все тысячи людей повторили за ним это слово. Слезы закипели у нас на сердце. „Клянемся!“ — крикнули мы.
„Клянемся им в том, что всю работу, всю душу, самую жизнь мы положим за сохранение нашей свободы“.
И в этом мы поклялись.
„Клянемся им в том, что всю общественную работу мы отдадим на благо рабочего, неимущего люда“.
„Клянусь!“ — сказал он, и в эту минуту я полюбил его. Я понял, что если этот человек подойдет ко мне и скажет: „Бери вместо своих пипеток наган, иди, и борись, и прячься, и карауль врага, стреляй и страдай, как ты еще никогда не страдал в своей маленькой жизни“, — я пойду и буду благословлять его имя.
„Клянемся им в том, что между нами не будет ни еврея, ни армянина, ни поляка, ни татарина, но все мы будем отныне равные, свободные братья свободной России“.
Я оглянулся и увидел тысячи людей, бледных и плачущих от счастья. Я видел, как люди бросались к нему, обнимали его, целовали его плечи. А он стоял спокойный, и ветер шевелил его прекрасные волосы.
Теперь я думаю, что тогда он не сумел сделать дело до конца. Тогда никто не делал ничего до конца, потому что мало было большевиков. Большевик — тот всегда поставит точку, и такую жирную, что ее ничем не сотрешь.
С кладбища он мог повести весь Севастополь за собой, захватить город, казармы и флот. Верьте мне, потому что я видел людей после его речи. Они готовы были зубами ломать тюремные решетки.
А вместо этого вечером его обманом заманили в Морской штаб, арестовали и посадили на броненосец „Три святителя“.
Он просидел две недели. Все эти две недели город кипел, как котел. Матросы и солдаты, и все мы, простые жители, требовали его освобождения.
Чухнин испугался. Штыки штыками и офицеры офицерами, а у каждого на душе есть страх, как грязь на дне стакана. Чухнин его выпустил.