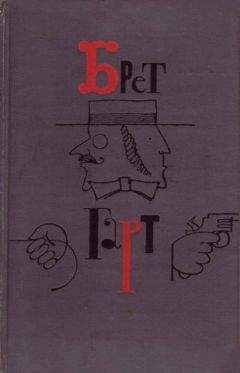Из всех семей, предложивших приютить Млисс под своим кровом после того, как стало известно, что она «обратилась», учитель выбрал семью миссис Морфер, женщины добросердечной, которая была уроженкой юго-восточных штатов и в девичестве носила прозвище «Роза Прерий». Миссис Морфер была одной из тех натур, которые энергично сопротивляются собственным наклонностям, и после долгой борьбы с собой и многих жертв она подчинила наконец свой безалаберный характер идее «порядка», который считала вместе с Попом «первым законом небес». Но как бы закономерно ни было ее движение по собственной орбите, она не в состоянии была уследить за своими спутниками, и даже ее Джим подчас сталкивался с ней. Но истинный характер миссис Морфер возродился в ее детях. Ликург шарил в буфете до обеда, Аристид возвращался из школы без башмаков, сбросив эту важную часть туалета на улице ради удовольствия прогуляться босиком по канавам. Октавия и Кассандра были порядочные неряхи. И сколько Роза Прерий ни подстригала и ни холила свою зрелую красоту, ее юные отпрыски росли дико и буйно, наперекор матери, за одним-единственным исключением. Этим исключением была Клитемнестра Морфер, пятнадцати лет от роду. Чистенькая, аккуратная и скучная, она как бы воплощала собой безупречный идеал матери.
Миссис Морфер имела слабость думать, что Клити служит для Млисс утешением и примером. Повинуясь этой слабости, миссис Морфер ставила свою дочь в пример Млисс, когда та плохо себя вела, и заставляла девочку восхищаться ею в минуты раскаяния. Поэтому учитель не удивился, услышав, кто Клити будет ходить в школу, очевидно, из уважения к нему и ради примера для Млисс и других, ибо Клити была уже взрослая молодая особа. Она расцвела рано, унаследовав физические особенности своей матери и подчиняясь климатическим законам Красной горы. Местная молодежь, которой редко приходилось видеть такие пышные цветы, вздыхала по ней в апреле и томилась в мае. Ее вздыхатели слонялись возле школы в те часы, когда кончались уроки. Некоторые ревновали ее к учителю.
Может быть, именно это обстоятельство открыло учителю глаза. Он не мог не заметить романтических склонностей Клити, не мог не заметить, что в классе она то и дело требовала к себе внимания, что перья у нее всегда плохо писали и нуждались в очинке, что просьбы эти обычно сопровождались выразительными взглядами, совершенно не соответствовавшими характеру услуги, о которой она просила; что иногда она касалась полным круглым локотком руки учителя, выводившего для нее пропись; что при этом она всегда краснела и откидывала назад белокурые локоны. Не помню, говорил ли я, что учитель был молод. Впрочем, это не имеет значения; он уже прошел суровую школу, в которой Клити брала первый урок, и довольно успешно сопротивлялся полным локоткам и притворно ласковым взглядам, как оно и подобало молодому спартанцу. Быть может, такому аскетизму способствовало недостаточное питание. Обычно учитель избегал Клити, но однажды вечером, когда она вернулась в школу за какой-то забытой вещью и нашла ее не раньше того, как учитель собрался идти домой, он проводил ее и постарался быть особенно любезным, мне кажется, отчасти потому, что такое поведение наполняло горечью и без того переполненные сердца поклонников Клитемнестры.
На следующее утро после этого трогательного происшествия Млисс не пришла в школу. Наступил полдень, а Млисс все не было. Когда учитель спросил о ней Клити, оказалось, что обе они вышли из дому вместе, но упрямая Млисс пошла другой дорогой. Она не приходила весь день. Вечером он зашел к миссис Морфер, чье материнское сердце было не на шутку встревожено. Мистер Морфер провел целый вечер в поисках беглянки, но не нашел никаких следов ее местопребывания. Призвали Аристида, как возможного сообщника, но этот добродетельный младенец сумел уверить домашних в своей невиновности. Живое воображение миссис Морфер подсказывало ей, что девочка утонула в канаве или — а это еще ужаснее — так перепачкалась, что делу нельзя будет помочь ни мылом, ни водой. С тяжелым чувством учитель вернулся в школу. Засветив лампу и усевшись за стол, он заметил перед собой письмо, написанное почерком Млисс и адресованное ему. Оно было написано на листке, вырванном из старой записной книжки, и запечатано шестью старыми облатками, чтобы ничьи дерзновенные руки не коснулись его. Учитель вскрыл его почти с нежностью и прочел:
«Милостивый государь, когда вы прочтете это, меня уже не будет здесь. И я никогда не вернусь. Никогда, никогда, никогда! Можете отдать мои бусы Мери Дженингс, а мою «Гордость Америки» (ярко раскрашенную картинку с табачной коробки) — Салли Флэндерс. Только не давайте ничего Клити Морфер. Не смейте давать! Если хотите знать, что я о ней думаю, так вот: она препротивная девчонка. Вот и все, и больше мне писать не о чем.
С уважением Мелисса Смит».
Учитель сидел, размышляя над этим странным посланием, до тех пор пока светлый лик луны не поднялся над дальними горами и не осветил протоптанную детскими ногами дорожку, которая вела к школе. Потом, несколько успокоившись, он разорвал письмо на клочки и разбросал их по дороге.
На следующее утро, с восходом солнца, он уже прокладывал себе путь сквозь пальмовидные папоротники и густой кустарник в сосновом лесу, спугивая по дороге зайцев и вызывая хриплый протест со стороны беспутных ворон, должно быть прогулявших всю ночь напролет, и наконец добрался до лесистого горного склона, где когда-то повстречал Млисс. Там он разыскал поваленное дерево с косматыми ветвями, но трон пустовал. Когда он подошел ближе, сучья затрещали, словно под ногами испуганного зверька, что-то пробежало вверх среди вскинутых к небу рук павшего гиганта и затаилось в гостеприимной хвое. Добравшись до знакомого места, учитель увидел, что гнездышко еще не остыло; взглянув вверх, он встретил среди переплетенных ветвей черные глаза беглянки Млисс. Они молча смотрели друг на друга. Млисс первая нарушила молчание.
— Что вам нужно? — резко спросила она.
Учитель заранее обдумал, как ему держаться.
— Яблок, — сказал он смиренно.
— Ничего вы не получите! Ступайте прочь. Подите попросите у Клитемне-е-стры. (Ей, казалось, доставляло удовольствие презрительно растягивать и без того длинное имя этой классической молодой особы.) Как вам не стыдно!
— Я хочу есть, Лисси. Я ничего не ел со вчерашнего обеда. Умираю с голоду! — И молодой человек в совершенном изнеможении прислонился к дереву.
Сердце Мелиссы дрогнуло. Еще с горьких дней цыганской жизни ей было знакомо чувство голода, которое так искусно имитировал учитель. Побежденная его смиренным тоном, но еще не совсем отбросив подозрения, она сказала: