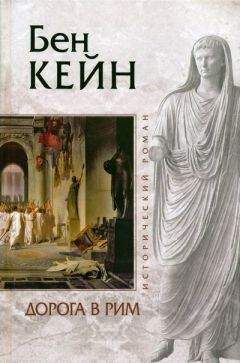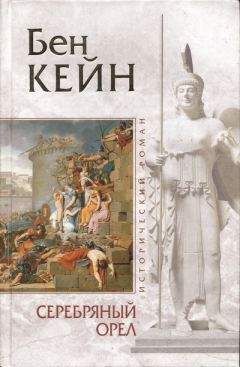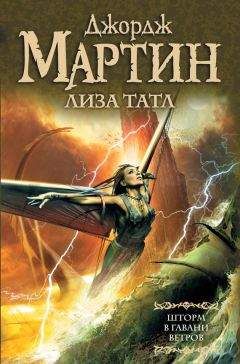Ропот против Цезаря раздавался все сильнее, недовольным не хватало лишь объединяющего звена — и этим звеном стала Фабиола. Уже через неделю она заручилась поддержкой Марка Брута, Кассия Лонгина, Сервия Гальбы и Луция Басила. Марк Брут — двоюродный брат ее любовника — приходился сыном Сервилии, давней любовнице Цезаря, и, несмотря на это, примкнул когда-то к республиканцам, на стороне которых сражался при Фарсале. Помилованный Цезарем, он добился прощения и для Кассия Лонгина, который служил Крассу в Парфии, и теперь они вступили в заговор одновременно. Марка Брута, как и Требония, возмущало то, что Цезарь сосредоточил в своих руках полную власть, оттеснив талантливых государственных мужей на задний план. Кроме того, он (как и любовник Фабиолы Децим Брут) происходил из семьи, которая, по преданию, низложила последнего римского царя пятьсот лет назад. К тому же Марк приходился племянником Катону — оратору-республиканцу, который покончил с собой после битвы при Тапсе, лишь бы не жить под правлением Цезаря. Катон с тех пор считался воплощением римской аристократической доблести, и Марк Брут, некогда посвятивший ему памфлет, теперь с готовностью примкнул к заговору, дух которого соответствовал его истинным убеждениям и, как он заявлял, его чести римлянина.
Фабиола, правда, понимала, что пяти нобилей для заговора мало: одна лишь слава и публичные заслуги не гарантируют успеха. Кроме того, в случае покушения у диктатора наверняка найдутся защитники. Цезарь, в начале года распустивший свою испанскую стражу, по-прежнему пользовался любовью народа и большинства сенаторов. Поэтому девушке, как никогда, нужны были исполнители заговора.
Молитвы Фабиолы получили ответ четыре недели назад, во время луперкалий — древнего праздника плодородия. На глазах у огромных толп Антоний поднес Цезарю венец, прося его стать царем. Цезарь дважды отказывался и в конце концов велел отправить венец в храм Юпитера. Эту неуклюжую попытку диктатора отвести от себя подозрения в том, что он стремится к абсолютной власти, тут же перевесили разлетевшиеся по Риму слова прорицания, из которого следовало, что Парфию сможет завоевать только царь, и уже ходили слухи, что сенат провозгласит Цезаря царем над римскими землями за пределами Италии.
Эти новые угрожающие веяния оказались последней каплей, и за несколько дней к заговорщикам присоединились новые лица, так что Фабиола окончательно уверилась, что насильник ее матери не уйдет от расплаты. В просторном, залитом светом зале в конце коридора теперь собиралось больше полусотни сенаторов из всех партий и группировок — бывшие консулы, трибуны и квесторы соседствовали с рядовыми политиками.
Брут, любовник Фабиолы, здесь не появлялся. Основную часть времени он проводил в храмах: возносил молитвы и советовался с авгурами, получая каждый раз противоположный совет от любого, в чью ладонь опускал серебряную монету. Смятение его только усиливалось, сон не приходил, и каждую ночь Брут мерил шагами коридоры особняка, моля Марса и Митру ниспослать ему знак. Безуспешно. Раздражение и усталость только росли.
Фабиола, зная об этом, собирала заговорщиков в Лупанарии, окончательно отбросив хитрости. Брут ни о чем не спрашивал, но и никому не рассказывал о ее подозрительных делах, так что Фабиола по-прежнему надеялась когда-нибудь привлечь любовника на свою сторону.
Ступив в зал на шаг позади Требония, Фабиола вдруг поняла, что сколько ни старайся обойтись без Брута, ей не хватает его присутствия. Ромул наотрез отказался помогать сестре, а ей так нужна поддержка кого-то из близких. Девушка уже чувствовала тяжесть взваленного на плечи груза: Цезарь не просто насильник ее матери, он величайший правитель за всю историю государства и его смерть потрясет Рим до основания.
* * *
Крепко держа черную курицу за шею, Тарквиний положил ее на камни и, подняв глаза к возвышающейся над ними статуе Юпитера, пробормотал:
— Великий Тиния, прими эту жертву от твоего смиренного служителя.
Острый нож молниеносно перерубил куриное горло, отсекая голову, и гаруспик прижал курицу к камню, давая крови пролиться на пол. Крылья судорожно дернулись раз-другой и наконец бессильно опали. Тарквиний, не выпуская курицу из рук, сосредоточенно вгляделся в алый поток, вытекающий из перерубленной шеи.
Ромул, чуть не дрожа от напряжения, всматривался в кровяные потеки, однако даже не пытался вникать в предзнаменования, полностью полагаясь на гаруспика. Маттий, едва дыша, застыл рядом.
— Восток, — прошептал Тарквиний. — Кровь течет на восток.
Ромул тут же встрепенулся:
— Хорошая примета?
Лицо Тарквиния озарилось медленной улыбкой.
— Да. На востоке обитают духи — покровители человечества. Оттуда происходит и мой народ.
— Там же лежит и Маргиана, — добавил Ромул, замирая от предчувствия.
Гаруспик едва заметно кивнул.
— А где это? — выдохнул Маттий.
Тарквиний не ответил. Обрывая перья с куриного тела, чтобы обнажить чрево, он набирал их в горсть и, разжимая руку, смотрел, полетят они вниз или в сторону. По большей части они беспорядочно опускались книзу, собираясь кучкой под ногами; некоторые относило вбок — за этими Тарквиний остро следил, как сокол за мышью. Перевернувшись в воздухе, несколько черных перьев отлетели на шаг-два от статуи. Следом за ними — другие. Коснувшись пола, перья несколько мгновений не двигались, как вдруг, поднятые дуновением, взмыли ввысь и, скользнув с вершины холма, полетели с потоком ветра, кружащего над Римом. Через миг, унесенные к востоку, они скрылись с глаз.
Пытаясь унять бешено бьющееся сердце, Ромул не раскрывал рта.
Гаруспик еще больше посерьезнел. Уложив курицу на пол между стопами Юпитера, он тонким надрезом вскрыл чрево, стараясь не задеть внутренности, и отложил нож. Лентой вытащил наружу кишки — их вид явно его порадовал, затем, легко шевеля губами, раздвинул грудину и вынул маленькую темно-красную печень. Закругленные линии и ровный цвет недвусмысленно указывали — даже Ромулу, — что курицу не касались ни болезни, ни паразиты.
Держа печень в левой руке, Тарквиний обратил взгляд к небу, изучая форму облаков и направление ветра.
— Великий Тиния, — наконец вымолвил он, — прими ныне эту жертву. Ниспошли двум смиренным почитателям мудрость, дабы открылись назначенные пути.
— Трем, — встрял Маттий. — Я ведь тоже его почитаю!
Боясь, что такое вмешательство нарушит ход ворожбы, Ромул сдвинул брови, однако Тарквиний ничуть не смутился.
— Мои извинения, — склонил он голову к Маттию и, подняв взгляд на статую, добавил: — Не оставь милостью и нашего друга, великий Тиния.